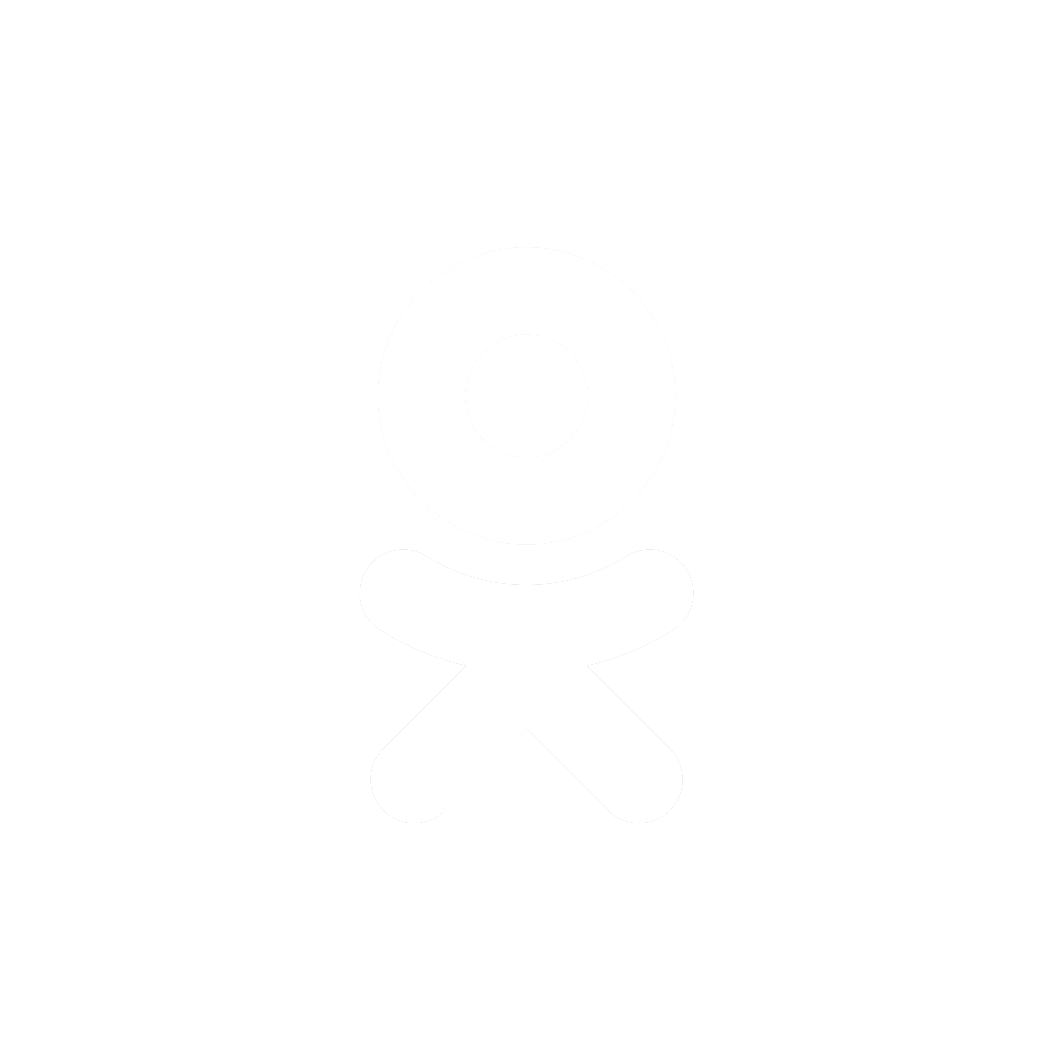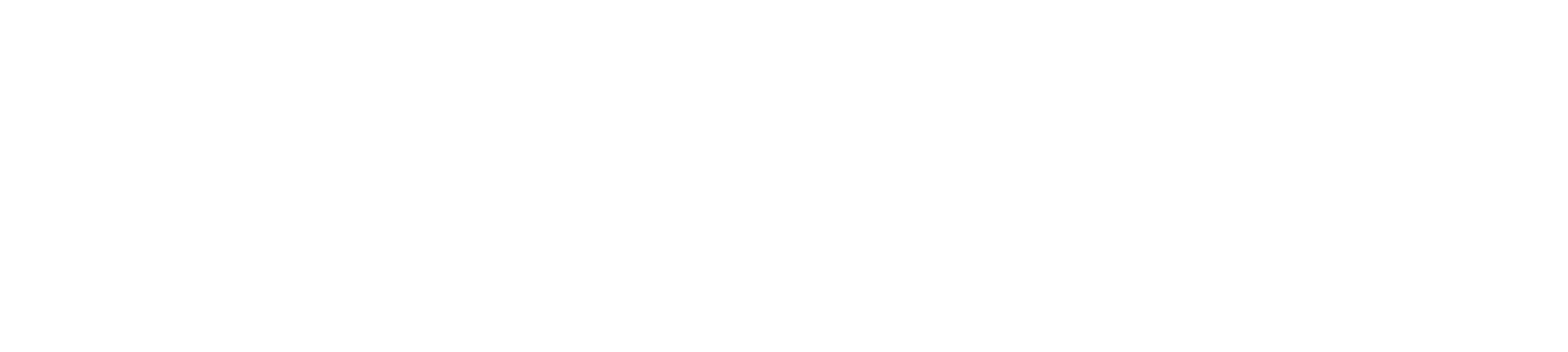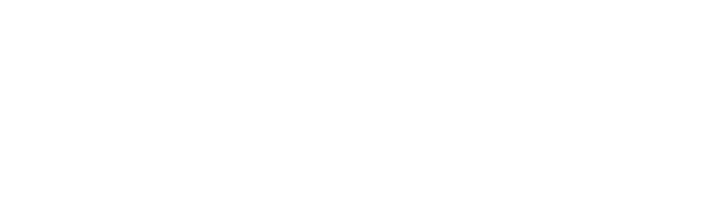Нурлан Тайиров. Путь освобождения
Tilda Publishing
КУЛЬТУРА
Антон Веселов
Нурлан Тайиров — живописец, график, мозаичист, многодетный отец и невероятно системный человек. Балансируя между дионисийским и аполлоническим, абстрактным и реалистичным, религиозным и мифологическим, маслом и смальтой, он претендует на статус главного поставщика художественных новостей этого города.
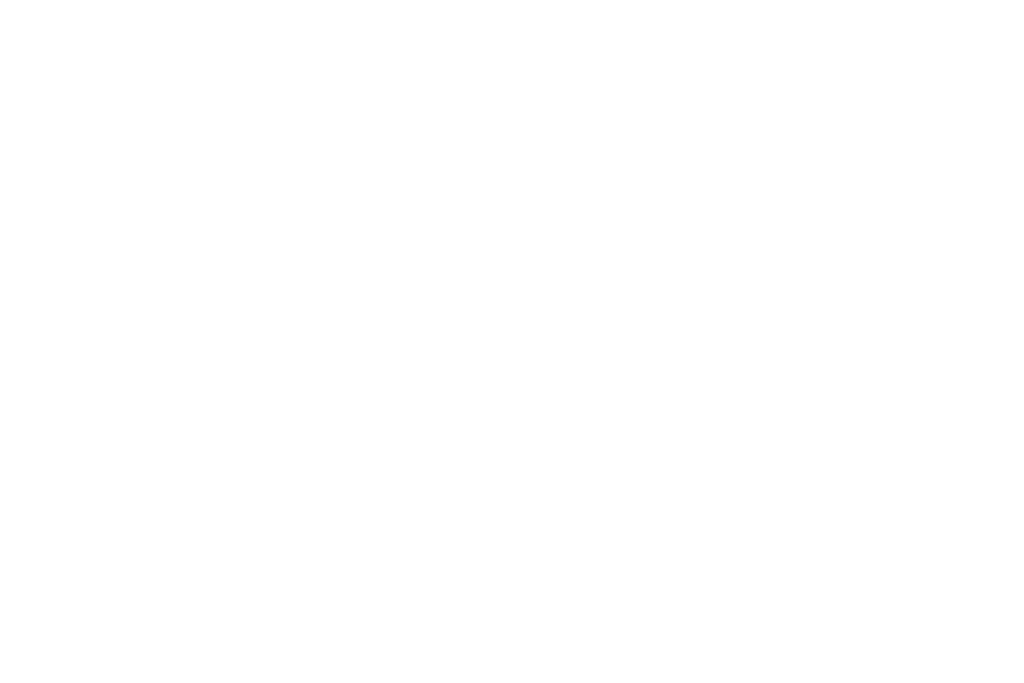
Нурлан Тайиров. Фотография предоставлена художником
— У тебя не просто образование художника-монументалиста, ты привык монументально, досконально разбираться в вопросах искусства, истории и философии. Эти свойства характера воспитанные или врождённые?
— Воспитанные. Наверное, это началось с дипломного проекта «Дионисийские мистерии» в академии, тогда я впервые начал разрабатывать тему настолько глубоко. Чтобы в дипломе развернуть связную красивую историю, тем более по античной мифологии, нужно многое узнать и прочитать. А вторая волна, ещё более мощная, которая научила меня всеобъемлющему видению, — это храмовое искусство. Практически сразу после академии меня пригласили оформить храм. Сначала фасадные мозаики, два больших панно со сценами Благовещения. А потом и весь иконостас для этой новой церкви. Конечно, я начал с центральной крупной иконы, потом принялся за все остальные, от ростовых икон до икон праздничного ряда — они гораздо меньше.
— Храмовое искусство, церковное искусство вообще, предполагает основательные знания не только канона, но и всей теологии, всего богословия?
— Художник должен быть специалистом и в мифологии, и в науке, и во многих других дисциплинах. А кроме того, быть ещё и богословом. Давайте вспомним Феофана Грека. В документах церковных деятелей, которые были свидетелями его работы, они так и описывают процесс: он говорит и одновременно рисует. Зрители не успевали понять, как создавалась фреска, всё внимание было приковано к тому, что Феофан рассказывал. В книге мне встретилась красивая цитата на церковнославянском языке:
«Когда же он всё это рисовал и писал, никто не видел, чтобы он смотрел на образцы, как это делают некоторые наши иконописцы, которые, полные недоумения, всё время нагибаются, глазами бегают туда и сюда, не столько работают красками, сколько принуждены постоянно глядеть на образец… Когда Феофан создаёт образы… он не стоит спокойно, языком беседует с приходящими, умом же размышляет о постороннем и разумном; так он своими разумными чувственными глазами видит всё разумное и доброе».
Наизусть, конечно, я её не воспроизведу… Она ровно о том, что в древности к художнику относились как к богослову. Изначально художников в русской традиции даже называли «хитрецЪ», то есть человек, обладающий большим знанием, мудрец.
«Когда же он всё это рисовал и писал, никто не видел, чтобы он смотрел на образцы, как это делают некоторые наши иконописцы, которые, полные недоумения, всё время нагибаются, глазами бегают туда и сюда, не столько работают красками, сколько принуждены постоянно глядеть на образец… Когда Феофан создаёт образы… он не стоит спокойно, языком беседует с приходящими, умом же размышляет о постороннем и разумном; так он своими разумными чувственными глазами видит всё разумное и доброе».
Наизусть, конечно, я её не воспроизведу… Она ровно о том, что в древности к художнику относились как к богослову. Изначально художников в русской традиции даже называли «хитрецЪ», то есть человек, обладающий большим знанием, мудрец.
— Сколько длилось твоё погружение в контекст «Дионисийских мистерий»?
— Год-два я готовился к этому проекту, изучал все материалы. Важно было не просто на практике скопировать, я пытался понять весь композиционный строй каждого сюжета, начиная с древних источников до уже вполне классических. Нужно много знать. Поэтому и во всех остальных своих находках и открытиях, которые меня увлекают, я хочу со всех сторон рассмотреть, понять и даже прочувствовать всё, что имеет к ним отношение.
— Получается такое двуединство — дионисийское и аполлоническое начало в работе и в жизни. И выставки, и картины, и частные жизненные периоды ведь были очень разные. Как менялось это соотношение аполлонического и дионисийского в твоей жизни?
— Хороший вопрос. По натуре я классификатор, люблю всё разложить по полочкам. У меня в мастерской всегда порядок, которому очень сильно удивляются гости: «Где же творчество, свобода?!» Многие думают, что в мастерской должен быть хаос, там должно быть всё перемазано маслом — красиво и живописно. А у меня никакого художественного беспорядка, всё лежит по своим местам.
Привычнее представлять мастерскую как у Фрэнсиса Бэкона. Фотографии валяются, газетные обрезки, кучи, казалось бы, какого-то мусора, двери и все предметы мебели перепачканы краской. А ведь он никогда не пускал к себе уборщицу, потому что, не дай бог, она передвинет какой-то обрывок или клочок — разрушит систему. У него тоже всё на своём месте, в этом хаосе есть свой абсолютный порядок.
Мой порядок другой, он больше похож на обычный. По натуре я очень упорядоченный человек, склонный всему находить свое место. Так вот, когда я делал диплом, подходил к этому процессу с такой же паучьей серьёзностью. Мой руководитель, Михаил Сергеевич Омбыш-Кузнецов, мне даже посоветовал расслабиться: «Тебе нужно пообщаться с вакханками!»
Привычнее представлять мастерскую как у Фрэнсиса Бэкона. Фотографии валяются, газетные обрезки, кучи, казалось бы, какого-то мусора, двери и все предметы мебели перепачканы краской. А ведь он никогда не пускал к себе уборщицу, потому что, не дай бог, она передвинет какой-то обрывок или клочок — разрушит систему. У него тоже всё на своём месте, в этом хаосе есть свой абсолютный порядок.
Мой порядок другой, он больше похож на обычный. По натуре я очень упорядоченный человек, склонный всему находить свое место. Так вот, когда я делал диплом, подходил к этому процессу с такой же паучьей серьёзностью. Мой руководитель, Михаил Сергеевич Омбыш-Кузнецов, мне даже посоветовал расслабиться: «Тебе нужно пообщаться с вакханками!»
Михаил Сергеевич Омбыш-Кузнецов — художник, академик Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации.
Читайте и интервью с ним на «Искрах»: https://iskry.life/culture/iskusstvo-dolzhno-byt-silnym
Читайте и интервью с ним на «Искрах»: https://iskry.life/culture/iskusstvo-dolzhno-byt-silnym
— Но это непростая задача — перестать все контролировать?
— Я постепенно двигаюсь в эту сторону. В том числе и в своей живописной технике стараюсь как-то через экспрессивный метод прийти к свободной подаче. Меньше контроля, меньше зажатости. Стараюсь освободиться не только в жесте, но и в самом видении сюжета, в подходе к работе с краской. Важно научиться легче делиться энергией на физическом уровне. Это очень правильно — обретение некой абсолютной формы. Человеку, который точно знает, как должно выглядеть изображение, которое ему пришло в голову, нужно постепенно отходить от буквальности в сторону совершенного жеста и абсолютной энергии. Конечно, чтобы пользоваться свободой, нужно иметь на неё право, опыт.
— Как ты принял решение стать художником?
— У меня классическое трёхступенчатое образование: художественная школа, художественное училище и художественная академия. Да и до «художки», уже с детского садика, я активно рисовал.
— Как многодетный отец считаю долгом спросить: в этих первых каракулях точно было что-то ценное, позволяющее «прочитать» будущего художника? Мне всегда казалось, что все мои дети гениальные в искусстве…
— Примерно так и моя мама отреагировала, когда ей воспитательница сказала: «Ваш ребёнок как-то по-особенному малюет каракули, надо его показать профессионалам!» В роду у меня не было представителей творческих специальностей. Но я правда рано начал рисовать. Помню, даже сам в садике подходил к ребятам, которые не рисовали — у меня к ним было какое-то сочувствие, что ли, — и говорил: «Давай я тебе нарисую!» Вот прямо за лацканы хватал, за пуговицы: «Ну давайте нарисую что-нибудь!» От меня, конечно, отмахивались, не думаю, что кто-то соглашался. Мне кажется, в садике каждый в своём гармоничном мире пребывает и вполне доволен собой. А потом всё естественно получилось. По совету учителя рисования попал в художественную школу, а к моменту выпуска открылось Художественное училище. И мой учитель сказал, что мне нужно поступать туда.
— Для семьи это испытание — сын, который решил свернуть с пути к высшему образованию!
— Да, родители рассчитывали, что я закончу одиннадцать классов и пойду в вуз. А тут я вдруг сбегаю в какое-то ПТУ. Но мой дедушка, который меня всегда поддерживал, встретился с моим будущим преподавателем, послушал его внимательно и встал на мою сторону.
Так для меня начался новый этап в жизни. Я стал пропадать вне дома — вся жизнь то в училище, то в мастерской. И в Академии ничего не изменилось. Я тогда переехал в Новосибирск, но мало что днём успевал посмотреть в большом городе — весь день проводил в мастерской. Конечно, временами по вечерам удавалось вырваться в филармонию или на выставку, но большую часть времени я проводил за холстом. Да что там говорить, я и сейчас весь световой день работаю.
Так для меня начался новый этап в жизни. Я стал пропадать вне дома — вся жизнь то в училище, то в мастерской. И в Академии ничего не изменилось. Я тогда переехал в Новосибирск, но мало что днём успевал посмотреть в большом городе — весь день проводил в мастерской. Конечно, временами по вечерам удавалось вырваться в филармонию или на выставку, но большую часть времени я проводил за холстом. Да что там говорить, я и сейчас весь световой день работаю.
— Получается, ещё на первом курсе училища ты осознал, что это служение навсегда, и результат не гарантирован?
— Да, у нас и преподаватель в училище был такой. Он стал нашим примером. Он приглашал нас в свою мастерскую. И мы видели, что художник постоянно работает — новые холсты, свежая палитра. Это здорово мотивирует. Того же он и от нас требовал. За день нужно было сделать как минимум пять набросков. А кроме набросков — зарисовки, этюды, постановки… Маховик раскрутился быстро, эта полная погружённость начала приносить удовольствие.
— Я предполагаю, что полностью сменился круг общения — нехудожники из него практически выпали?
— В нашем колледже искусств учились музыканты, актёры и режиссёры, хореографы и художники. Это здорово помогало не замыкаться. Ты пишешь новую картину, а рядом играет духовой оркестр или репетируют народники. Ты не теряешь времени, и при этом открываешь новые для себя горизонты. И коллаборации никто не отменял, художники участвовали и в концертах, и в спектаклях — делали афиши и декорации. В те времена я познакомился с театром по-настоящему, и до сих пор им увлечён. И это правда не только абстрактный кругозор развивает, но и помогает в конкретных проектах. Вот разрабатываешь ты античную тему, и буквально видишь, как музыка ложится.
— А профессиональное видение как развивалось? От эпохи к эпохе, от одной художественной технологии к другой?
— В училище я был воспитан как станковый художник в русской художественной традиции. Для меня богами были Врубель, Серов, Фешин. В общем, классическая русская школа. А вот когда я переехал в Новосибирск, лучше узнал художников, на которых раньше смотрел косо, не понимал их, не воспринимал — Матисса, Пикассо. К этому времени я уже прошел путь художника-ученика, перешел от неприятия к поклонению. И Ван Гога лучше стал понимать, когда прочитал его письма, — творчество этого художника неотделимо от его жизни. Поэтому письма Ван Гога обязательны к прочтению!
Или вот ещё пример. Я вообще не понимал Анри «Таможенника» Руссо. Я буквально возмущался — как это можно печатать в книгах, так рисовать нельзя! Весь первый курс и часть второго свыкался с этим художником. И только на третьем понял всё его величие. Так со многими. Только на третьем курсе открыл для себя американских художников Джексона Поллока, Марка Ротко, Виллема де Кунинга. И это произошло благодаря книгам.
Когда я учился в академии, ещё не было интернета. Я всё черпал из библиотечных книг. В одном из американских изданий мне попалась картина де Кунинга Excavation — альбом репродукций был на английском, я всё запомнил без перевода. Я хорошо помню своё состояние — вижу абстрактную картину, светлое полотно, кремовый однородный фон, на нём какие-то маленькие закорючки. Я смотрю на это как зачарованный — это было какое-то откровение. С одной стороны, я понимаю, что там ничего понятного не изображено, но это непонятное приводит меня в какой-то культурный шок. Мурашки побежали, можно сказать, вся жизнь изменилась.
Так что этот путь понимания имеет вполне конкретные координаты. А теперь я другими глазами смотрю на Серова — узнав абстрактное искусство, познав экспрессию Шагала, прочувствовав западную живопись. И вот ты возвращаешься к русской традиции и понимаешь, в чём её значение, особенность. Пока ты с одного полюса на другой не перешёл и не вернулся обратно — значение каждого из них не поймёшь.
Или вот ещё пример. Я вообще не понимал Анри «Таможенника» Руссо. Я буквально возмущался — как это можно печатать в книгах, так рисовать нельзя! Весь первый курс и часть второго свыкался с этим художником. И только на третьем понял всё его величие. Так со многими. Только на третьем курсе открыл для себя американских художников Джексона Поллока, Марка Ротко, Виллема де Кунинга. И это произошло благодаря книгам.
Когда я учился в академии, ещё не было интернета. Я всё черпал из библиотечных книг. В одном из американских изданий мне попалась картина де Кунинга Excavation — альбом репродукций был на английском, я всё запомнил без перевода. Я хорошо помню своё состояние — вижу абстрактную картину, светлое полотно, кремовый однородный фон, на нём какие-то маленькие закорючки. Я смотрю на это как зачарованный — это было какое-то откровение. С одной стороны, я понимаю, что там ничего понятного не изображено, но это непонятное приводит меня в какой-то культурный шок. Мурашки побежали, можно сказать, вся жизнь изменилась.
Так что этот путь понимания имеет вполне конкретные координаты. А теперь я другими глазами смотрю на Серова — узнав абстрактное искусство, познав экспрессию Шагала, прочувствовав западную живопись. И вот ты возвращаешься к русской традиции и понимаешь, в чём её значение, особенность. Пока ты с одного полюса на другой не перешёл и не вернулся обратно — значение каждого из них не поймёшь.
— Всё это выражено в шутке художников-монументалистов о том, что любой Серов — это абстрактная живопись. Во всяком случае, если её сильно увеличить или просто очень близко разглядывать?
— Любое полотно, даже самое реалистичное, при увеличении воспринимается как цветовой ковёр. У нас был такой приём. Когда глаз замылился, и хочется оценить свою работу по композиции и пятнам — просто переверни её. Картина становится абстрактной, а вся несбалансированность бросается в глаза.
— Какие масштабные работы удалось воплотить в жизнь как монументалисту?
— В первую очередь, храмовый проект. Я сделал две мозаичные стены внутри храма. В 2008 году закончил одну стену восемь квадратных метров. В прошлом году смонтировал вторую — делал ее три года. Кроме того, я расписал само зеркало купола, барабан. Теперь постепенно буду вниз опускаться. Возьмемся за алтарь, за абсиду. В архитектуре храма есть такие вот замковые камни, узловые моменты, где расположены самые главные сюжеты. Это зеркало купола, абсида, какие-то оси. Так и должен храм расписываться — не с левого верхнего угла в правый нижний, а по значимым сюжетам.
А что можно увидеть в Новосибирске? Я расписывал фасады одного жилого комплекса — он задумывался как парк-отель в стиле западноевропейских альпийских шале. У подножия Альп пересекаются Италия, Австрия, Франция, Германия. И, несмотря на их национальное различие, они во многом сходятся. И мы решили белые фасады расписать в этой стилистике. Это был интересный опыт — расписываешь фасад на уровне пятого этажа! Учишься работать большими объёмами — вёдрами — краски. Отрабатываешь технологию…
А что можно увидеть в Новосибирске? Я расписывал фасады одного жилого комплекса — он задумывался как парк-отель в стиле западноевропейских альпийских шале. У подножия Альп пересекаются Италия, Австрия, Франция, Германия. И, несмотря на их национальное различие, они во многом сходятся. И мы решили белые фасады расписать в этой стилистике. Это был интересный опыт — расписываешь фасад на уровне пятого этажа! Учишься работать большими объёмами — вёдрами — краски. Отрабатываешь технологию…
— Эскиз и проектор?
— Нет, по старинке, картон, по-настоящему переводишь эскизы на стену. Вообще к компьютерным технологиям я не слишком «приклеиваюсь». Даже если нужно использовать какой-то материал из интернета — я его распечатываю. Мне нужно прочувствовать его в формате, не с монитора. На любом экране ты видишь картинку через свет — это не подходит для взгляда художника.
— Это всё следы перфекционизма. Мозаика для перфекциониста, наверное, страшная вещь. Выпилил крошечный элемент, вклеил — и ничего уже не можешь изменить.
— На века. Когда я сделал две-три ошибки, понял, что нужно оставить как есть. Думаю, даже у древних мозаичистов были слабые куски, были сильные. Важно, чтобы сильных кусков было больше. В византийских мозаиках буквально на глаз заметно, где опытный мастер работал, а где его помощник. Так что я научился не бояться ошибок. Было всего два случая, когда я всё-таки разломал мозаику, поменял камни. Нельзя всё переделывать, мозаика и так очень долгий процесс.
Когда я занимаюсь мозаикой, понимаю, что делаю совершенно несовременную по своему духу работу для нашего скоротечного века. Мало кто думает о вечном, кто готов заниматься, на первый взгляд, абсурдным занятием. Я хочу сохранить эту технологию, пусть она не соответствует нынешнему времени. Это большое и серьёзное дело, мне приятно быть его частью.
Когда я занимаюсь мозаикой, понимаю, что делаю совершенно несовременную по своему духу работу для нашего скоротечного века. Мало кто думает о вечном, кто готов заниматься, на первый взгляд, абсурдным занятием. Я хочу сохранить эту технологию, пусть она не соответствует нынешнему времени. Это большое и серьёзное дело, мне приятно быть его частью.
— Какие-то временные рамки окончания храмового проекта ты себе ставишь?
— Когда я перекладываю смальту в ящиках — у меня на проект отведён некий запас и в брикетах, и уже наколотые на какие-то базовые крупные модули… Так вот, когда я переставляю эти ящики, понимаю, что за свою жизнь не успею их переработать. И я смиряюсь с этим.
— В твоей биографии не так много персональных выставок, все значимые. Особенно «Гибель Орфея», которая сейчас идёт в залах ЦК19. Только с её помощью новосибирцы смогли оценить масштаб художника Нурлана Тайирова!
— Это первая такая большая моя персональная выставка. Под 70 работ, а обычно у меня 30–40. На этой выставке две основные темы — я не стал показывать свои абстрактные работы, не выставил храмовую серию.
— Но даже то, что представлено, впечатляет. Как и описание от куратора: «Центральная часть проекта — произведения из серии «Гибель Орфея», основанной на эпизоде древнегреческого мифа о растерзанном поэте, служителе культа Аполлона, убитом отвергнутыми им вакханками». Похоже, для правильного и глубокого понимания отчаянно нужна медиация с художником!
— И они проходят по выставке. Я уже провёл несколько авторских экскурсий. Одна из них была закрытая, потому что её организовали в первые дни работы выставки для всех, кто работает в ЦК19, от технического персонала (мастера, дворники, уборщицы) до кураторов и инженеров. Для площадки это тоже была первая такого рода экскурсия. Слушали меня внимательно, мне кажется, никто не скучал. Я рад возможности провести экскурсии, поучаствовать в public talk. Когда проговариваешь какие-то вещи — больше к ним уже не возвращаешься. Если что-то засело в голове — лучше всего это выговорить, освободиться и идти дальше.
— Период зрелости? Наконец художник стал взрослым. 45 — это время начала главных проектов жизни!
— Постепенно приходит зрелость. Я уже не так беспокоюсь за свою правоту, нет амбиций обязательно всем всё доказать. Приходит спокойное ощущение своей ценности. Становится понятно, кто я, куда дальше двигаться.
— В этом помогает уютная тихая семейная бухта? Жена, трое детей…
— Тихая? У меня три парня! Это, конечно, серьёзное испытание. Рождение детей, их воспитание очень сильно на меня повлияли. У меня трое сыновей, и я ничего не боюсь после этого.
поделитесь статьей