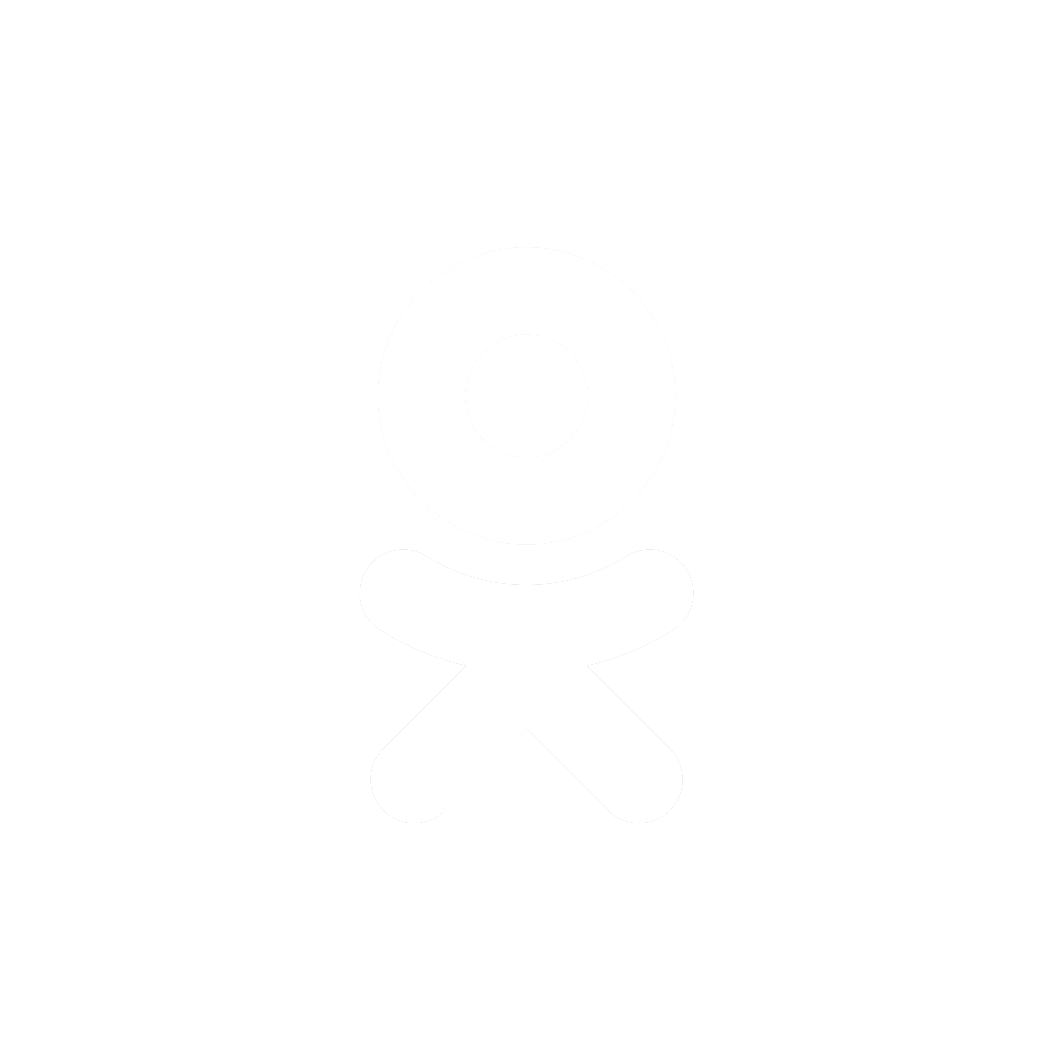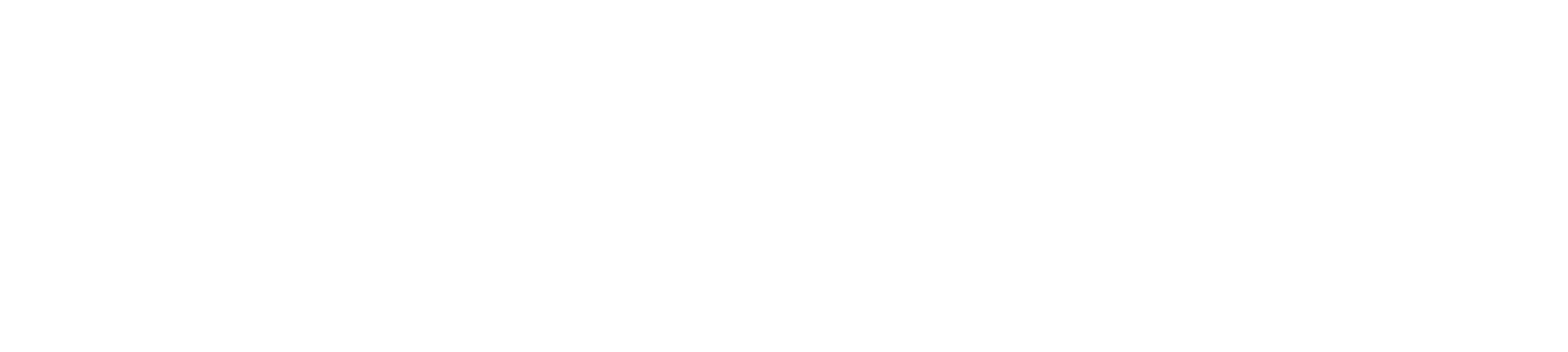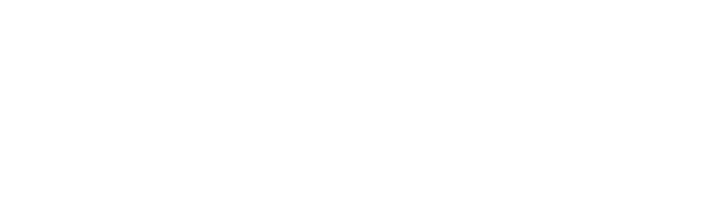Галломания в СССР. Жё не манж па сис жур, или Увидеть Париж и умереть
Tilda Publishing
КУЛЬТУРА
Сергей Самойленко
Фразу из заголовка, думаю, помнят все, заставшие Советский Союз, и многие, при советской власти не жившие. Её произносит Киса Воробьянинов в старой киноверсии «Двенадцати стульев», когда «концессионеры», он и Остап Бендер, ищут хоть какие-то деньги для продолжения охоты за сокровищами. Киса ещё добавляет: «Подайте бывшему депутату Государственной Думы!» — и в этой сцене, как в капле воды, отражается вся «языковая» часть «французского мифа», всё изменившееся положение французского языка: от европейской «лингва франка» XVIII и XIX веков, языка, на котором русское дворянство общалось и постигало культуру, — до уступающего место в образовании немецкому и английскому, языкам потенциальных военных и политических противников.
Фр. Je ne mange pas six jours — «Я не ел шесть дней», но правильнее — Je ne mange pas depuis six jours.
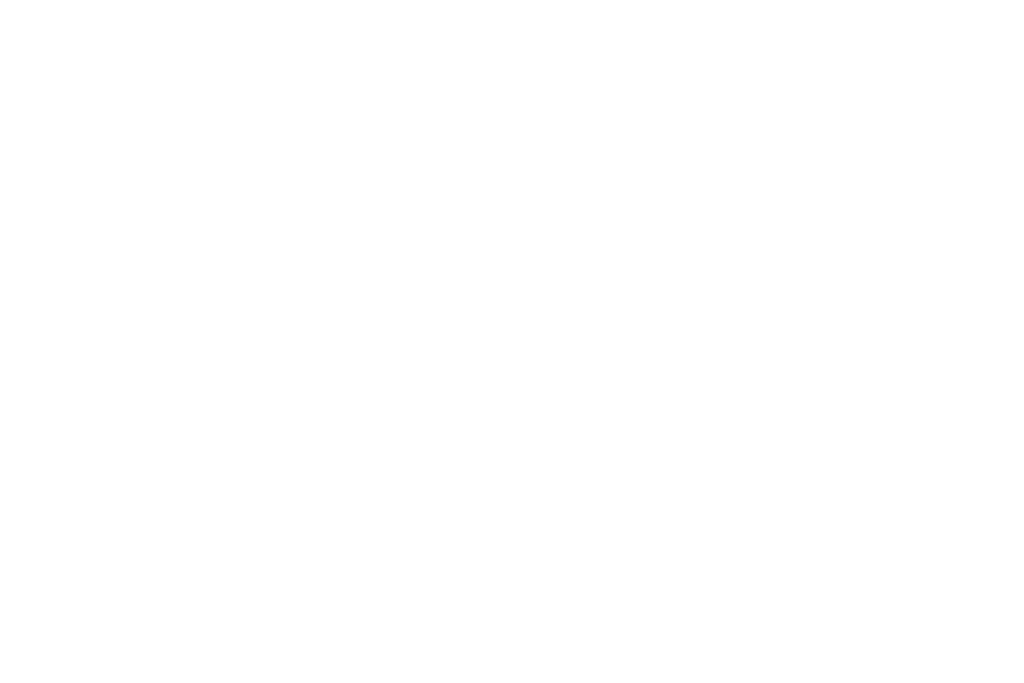
Фотография Диого Фагундеса, unsplash.com
Да, использование языка в годы советской власти сильно сократилось, но в обиходе всё равно звучало «ламур-тужур», «пардон»-«мерси» и «жётэм»/«жёвузэм»… К тому же миф, как и положено, с какого-то момента начинает сам поддерживать и продвигать себя, почти не опираясь на объективные условия. Это и происходило в СССР с мифом о Франции как стране кружевных клошаров и обсыпанных сахаром импрессионистических лягушек.
Эпитет «французский» обозначал что угодно — от любви и поцелуя «по-французски» до французских духов и мяса «по-французски». При этом никакого отношения наша свинина, запёченная с сыром, помидорами и майонезом, к французской кухне не имела, как и обязательный к новогоднему столу «оливье» — к рецепту французского шеф-повара (да он и считается во всем мире, в том числе во Франции, «русским салатом»). То же самое и с тортом «Наполеон», придуманным в России.
С духами, положим, язык не врал: французские духи в СССР действительно были французскими. Но в бочке советских ароматов («Красного мака» и «Красной Москвы», обрусевшего за постреволюционные годы «Шипра», бесчисленного числа одеколонов с мужскими именами) капля настоящего французского парфюма была не то что неразличима, но труднодостижима. Как и любой аутентичный «западный» продукт, французские духи были страшным дефицитом, который был доступен далеко не всем. Купить Climat (их в «Иронии судьбы» Ипполит дарит Наде), «Фиджи», «Чёрную магию» или «Пуазон» можно было только в Москве, в нескольких магазинах (ну, и в магазинах «Берёзка» за чеки, куда простым смертным вход был запрещён). И даже в этих магазинах они стоили бешеные деньги.
Эпитет «французский» обозначал что угодно — от любви и поцелуя «по-французски» до французских духов и мяса «по-французски». При этом никакого отношения наша свинина, запёченная с сыром, помидорами и майонезом, к французской кухне не имела, как и обязательный к новогоднему столу «оливье» — к рецепту французского шеф-повара (да он и считается во всем мире, в том числе во Франции, «русским салатом»). То же самое и с тортом «Наполеон», придуманным в России.
С духами, положим, язык не врал: французские духи в СССР действительно были французскими. Но в бочке советских ароматов («Красного мака» и «Красной Москвы», обрусевшего за постреволюционные годы «Шипра», бесчисленного числа одеколонов с мужскими именами) капля настоящего французского парфюма была не то что неразличима, но труднодостижима. Как и любой аутентичный «западный» продукт, французские духи были страшным дефицитом, который был доступен далеко не всем. Купить Climat (их в «Иронии судьбы» Ипполит дарит Наде), «Фиджи», «Чёрную магию» или «Пуазон» можно было только в Москве, в нескольких магазинах (ну, и в магазинах «Берёзка» за чеки, куда простым смертным вход был запрещён). И даже в этих магазинах они стоили бешеные деньги.
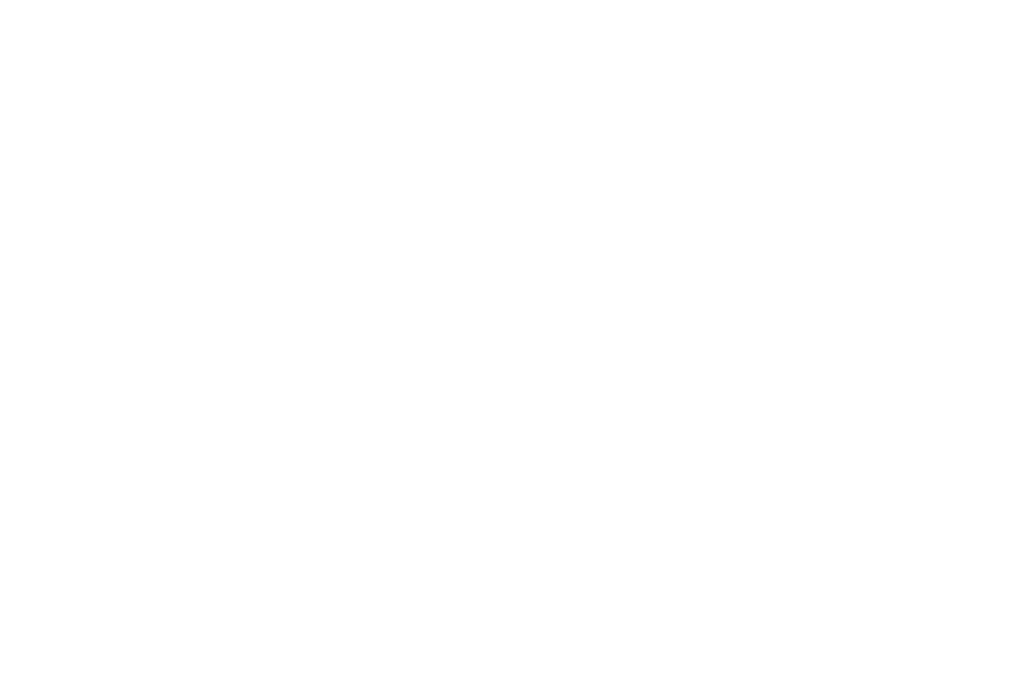
Духи Climat от Lancôme в первом дизайне упаковки, выпускавшимся с 1967 года до середины 1970-х. Фото: livemaster.ru
Ореалевский флакончик Climat — 25 рублей, столько же — выпускаемые Ги Ларошем «Фиджи» (это, к слову, тот самый дизайнер, придумавший платье с обнажённой спиной Мирей Дарк для «Высокого блондина», о котором упоминалось в одном из предыдущих текстов «Галломании»), Magie Noir фирмы Lancome — 45 рублей за маленький флакон, 70 — за большой, диоровский Poison (в переводе «Яд») — 30. При средней зарплате чуть больше ста рублей в месяц простой советский человек такие ароматы позволить себе не мог.
Я, помню, Fidji в подарок даме смог купить, только заработав очень круглую сумму на дальневосточной путине после армии, а флакончик «Мадам Роша» — когда работал на коксохимзаводе.
А «Шанель № 5» была совершенной легендой, почти недоступной… Галина Волчек вспоминала, как её тогдашний муж Евгений Евстигнеев подарил ей коробочку духов Vol de Nuit («Ночной полёт») на гастролях в Румынии, купив у фарцовщиков, — она была предана этому аромату всю жизнь. Лиля Брик постоянно напоминала сестре, Эльзе Триоле, супруге писателя Луи Арагона, чтобы та прислала ей духов.
Мужской настоящий французский одеколон стоил не дешевле — редкий Balafre обходился в «четвертак», но его ещё надо было «достать». В начале 80-х советская парфюмерная промышленность, сильно нарастившая за двадцать лет объёмы производства, стала выпускать совместный с французами продукт на фабрике «Свобода»: женский аромат «Тет-а-тет» и два мужских одеколона — «Консул» и зелёного цвета «О'Жён», оба стоили немало, за десятку, но шли нарасхват.
Тут стоит упомянуть вот о чём: в СССР одеколоны для мужчин часто использовались не по прямому назначению, не для наружного применения, а внутрь. Это происходило чаще всего по причине неимения под рукой другого алкоголя (в стране победившего социализма периодически с этим возникали проблемы, усугубившиеся с началом перестройки, в абсурдную кампанию борьбы с пьянством). У меня был приятель, большой специалист по одеколону, продегустировавший десятки, наверное, сортов… Один мой «Консул», подаренный девушкой, между прочим, выпили однажды мои напарники по рыбообрабатывающему цеху на Курилах — другой спиртосодержащей жидкости было не достать.
Мужской настоящий французский одеколон стоил не дешевле — редкий Balafre обходился в «четвертак», но его ещё надо было «достать». В начале 80-х советская парфюмерная промышленность, сильно нарастившая за двадцать лет объёмы производства, стала выпускать совместный с французами продукт на фабрике «Свобода»: женский аромат «Тет-а-тет» и два мужских одеколона — «Консул» и зелёного цвета «О'Жён», оба стоили немало, за десятку, но шли нарасхват.
Тут стоит упомянуть вот о чём: в СССР одеколоны для мужчин часто использовались не по прямому назначению, не для наружного применения, а внутрь. Это происходило чаще всего по причине неимения под рукой другого алкоголя (в стране победившего социализма периодически с этим возникали проблемы, усугубившиеся с началом перестройки, в абсурдную кампанию борьбы с пьянством). У меня был приятель, большой специалист по одеколону, продегустировавший десятки, наверное, сортов… Один мой «Консул», подаренный девушкой, между прочим, выпили однажды мои напарники по рыбообрабатывающему цеху на Курилах — другой спиртосодержащей жидкости было не достать.
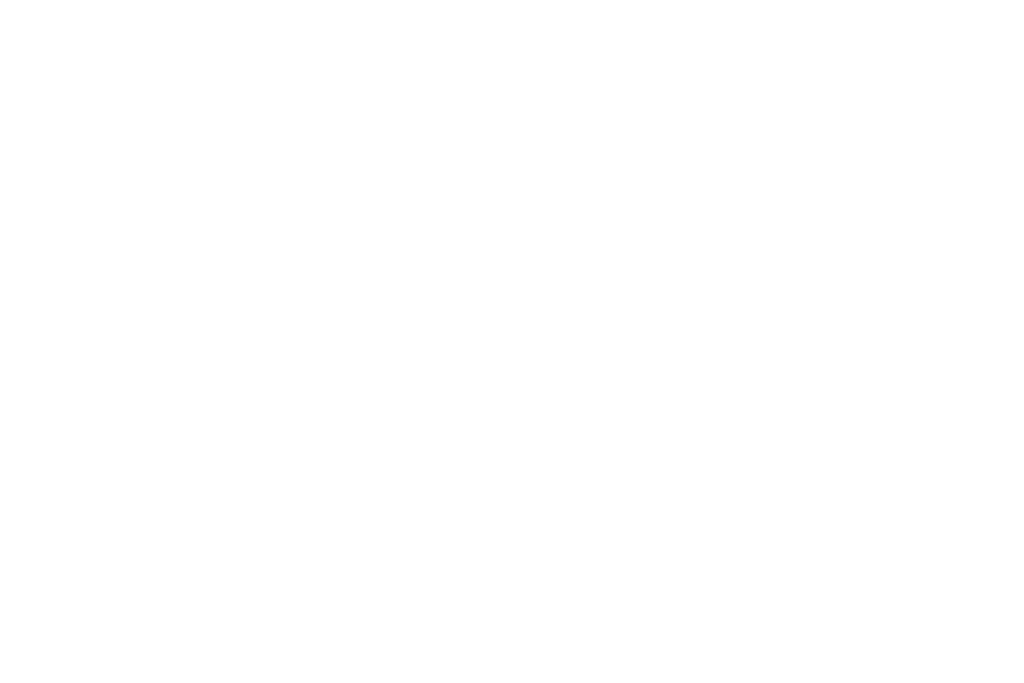
Одеколон «Консул» фабрики «Новая Заря». Фото: novostislyxi.webtalk.ru
Нечего и говорить, что многовековая, великая традиция французского виноделия в СССР была известна понаслышке — как анжуйское вино из «Трёх мушкетёров». «Советское шампанское» и советские (армянские, грузинские и прочие) коньяки лишь отдаленно напоминали о своём французском происхождении. Да, шампанское в СССР по утрам пили только аристократы и дегенераты, коньяк, как считал народ, отдавал клопами, коньяк «Наполеон» становился «героем» фольклора, а в обычной жизни предпочитали сладкие креплёные вина и портвейны, к португальским образцам тоже отношение имевшие весьма отдалённое… А уж о вине и говорить нечего — ни бордо, ни бургундского, ни какого другого никто даже не нюхал.
Сложившееся представление о «французском шике» и «французском шарме» было не то что совершенно превратным, но очень далёким от реальности.
Сложившееся представление о «французском шике» и «французском шарме» было не то что совершенно превратным, но очень далёким от реальности.
Миф жил и развивался в очень закрытом обществе, питаясь подножным кормом, случайной информацией, рос, как писала поэтесса, из когда б вы знали какого сора…
То есть из книг, кино, немногочисленных телепередач, в том числе пропагандистских, типа «Международной панорамы»: «Приближается Новый год, но нерадостны лица простых парижан…» И реальных событий, которые тоже сразу же становились легендой.
Как, например, первый показ моделей Christian Dior в Советском Союзе, первое в стране дефиле западного модного дома. В июне 1959 года самолёт Air France с дюжиной моделей (в СССР говорили «манекенщиц») под руководством молодого Ива Сен-Лорана, который тогда возглавлял Дом Dior, приземлился в Москве. Показы проходили в зале «Труд» ДК «Крылья Советов», на них пускали только по приглашениям, которые выдавали номенклатуре, родственникам чиновников, а также представителям лёгкой и текстильной промышленности.
Модельер Ирина Крутикова, посетившая один из показов, вспоминала: «Модели были невысокими, худыми, ходили по подиуму неспешно». Некоторые комплекты имели российские названия «Надежда», «Татьяна».
Как, например, первый показ моделей Christian Dior в Советском Союзе, первое в стране дефиле западного модного дома. В июне 1959 года самолёт Air France с дюжиной моделей (в СССР говорили «манекенщиц») под руководством молодого Ива Сен-Лорана, который тогда возглавлял Дом Dior, приземлился в Москве. Показы проходили в зале «Труд» ДК «Крылья Советов», на них пускали только по приглашениям, которые выдавали номенклатуре, родственникам чиновников, а также представителям лёгкой и текстильной промышленности.
Модельер Ирина Крутикова, посетившая один из показов, вспоминала: «Модели были невысокими, худыми, ходили по подиуму неспешно». Некоторые комплекты имели российские названия «Надежда», «Татьяна».
За пять дней состоялось 14 показов, каждая из моделей вышла на подиум 140 раз. Осталась легенда, что француженки использовали 12,5 литра духов из привезённых пятисот, и что остальные, вероятно, пошли на подарки жёнам советских чиновников.
Прогулки по Москве и поездку в Архангельск моделей в платьях французского модельера запечатлел американский фотограф Говард Сочурек, репортаж вышел в журнале Life, эти снимки в более-менее приличном качестве сейчас можно найти в сети.
Их стоит посмотреть: в ГУМе, советском храме изобилия, на улицах, в метро хрупкие француженки в экзотических платьях и шляпках выглядят рядом с советскими женщинами в фуфайках и платках как инопланетянки… Ну и на лицах советских граждан, соответственно, целая палитра эмоций: недоверие, настороженность, восхищение, зависть, иногда враждебность. Короче, это был эстетический шок. Причём для обеих сторон. Есть инструкция для моделей, отправившихся в тур, — будто они летят на другую планету с незнакомой цивилизацией.
Их стоит посмотреть: в ГУМе, советском храме изобилия, на улицах, в метро хрупкие француженки в экзотических платьях и шляпках выглядят рядом с советскими женщинами в фуфайках и платках как инопланетянки… Ну и на лицах советских граждан, соответственно, целая палитра эмоций: недоверие, настороженность, восхищение, зависть, иногда враждебность. Короче, это был эстетический шок. Причём для обеих сторон. Есть инструкция для моделей, отправившихся в тур, — будто они летят на другую планету с незнакомой цивилизацией.
Если кто думает, что фотограф тогда специально выбирал такие ракурсы и сюжеты, он может найти московские фотографии великого Картье-Брессона, снимавшего в Москве через год, — художественности больше, больше внимания советским людям, но быт — одежда, интерьеры, улицы — ровно тот же.
Понятно, что высокая мода, «от кутюр», она и сейчас не для массового пошива, но в СССР вся швейная промышленность руководствовалась годовыми и пятилетними планами и хоть и менялась, уходя от «сталинского гламура» и обиходных тканей в цветочек, но медленно и неуклюже… Повседневная мода тем не менее проникала в массы — нет, не через журналы, скорее через кино, которое становилось школой жизни, каналом приобщения к западному стилю. Одежда, манеры, движения и внешний облик усваивались в первую очередь с экрана.
Вот что пишет исследователь советской цивилизации Наталья Лебина: «Советский зритель видел на экране не только одежду, причёски, макияж, но и походку, манеру носить вещи, общаться, проявлять любовные чувства. Кроме того, в зарубежных фильмах показывались покупки, подарки, практики ухода за собой, формы проведения досуга — всё, что составляло другой мир, явленный кинематографом здесь и сейчас неизбалованному советскому зрителю…»
После фильма «Колдунья», например, в котором сыграла юная Марина Влади, в моду вошли распущенные светлые волосы. После фильма «Бабетта идет на войну» с тогдашней секс-бомбой Брижит Бардо прогрессивные советские девушки в начале 60-х стали сооружать на голове причёски «бабетта». В стране, где до этого с подозрением относились к ненормативной ширине штанов и длине волос, это было поначалу вызовом и демонстрацией своей «продвинутости», хотя постепенно, лет за десять, такие причёски стали в советском кино маркером персонажей скорее отрицательных — неглубоких, бездуховных горожанок, озабоченных только внешним видом и больных «вещизмом».
Понятно, что высокая мода, «от кутюр», она и сейчас не для массового пошива, но в СССР вся швейная промышленность руководствовалась годовыми и пятилетними планами и хоть и менялась, уходя от «сталинского гламура» и обиходных тканей в цветочек, но медленно и неуклюже… Повседневная мода тем не менее проникала в массы — нет, не через журналы, скорее через кино, которое становилось школой жизни, каналом приобщения к западному стилю. Одежда, манеры, движения и внешний облик усваивались в первую очередь с экрана.
Вот что пишет исследователь советской цивилизации Наталья Лебина: «Советский зритель видел на экране не только одежду, причёски, макияж, но и походку, манеру носить вещи, общаться, проявлять любовные чувства. Кроме того, в зарубежных фильмах показывались покупки, подарки, практики ухода за собой, формы проведения досуга — всё, что составляло другой мир, явленный кинематографом здесь и сейчас неизбалованному советскому зрителю…»
После фильма «Колдунья», например, в котором сыграла юная Марина Влади, в моду вошли распущенные светлые волосы. После фильма «Бабетта идет на войну» с тогдашней секс-бомбой Брижит Бардо прогрессивные советские девушки в начале 60-х стали сооружать на голове причёски «бабетта». В стране, где до этого с подозрением относились к ненормативной ширине штанов и длине волос, это было поначалу вызовом и демонстрацией своей «продвинутости», хотя постепенно, лет за десять, такие причёски стали в советском кино маркером персонажей скорее отрицательных — неглубоких, бездуховных горожанок, озабоченных только внешним видом и больных «вещизмом».
Справедливости ради надо сказать, что «французский миф» всё же в меньшей степени питался культурой материальной, а в основном — культурой и искусством. И «жё не манж па сис жур» — это не о французской кухне, устрицах и улитках, это о пище духовной в первую очередь.
Поэтому главными событиями начала «оттепели», второй половины 50-х годов, были события преимущественно культурные: Первый международный фестиваль молодёжи и студентов 1957 года в Москве, визит «Диора», выставка Пикассо 1956 года в Москве и Ленинграде, выставка французской фотографии «Живой Париж» 1959 года.
Выставка Пикассо была настоящей бомбой. Конечно, его принимали в СССР прежде всего как сторонника компартии и автора «Герники» и графической голубки, ставшей символом борьбы за мир во всем мире. Но совчиновники от искусства недоглядели, и Пикассо на свою выставку сам отбирал работы — в том числе самый, как у нас считалось, «формализм». В комплекте с коллекциями Пушкинского музея и Эрмитажа выставка была радикально отличающаяся от господствующего соцреализма. Ажиотаж тоже был нешуточный — в очередях надо было провести несколько часов.
Выставка Пикассо была настоящей бомбой. Конечно, его принимали в СССР прежде всего как сторонника компартии и автора «Герники» и графической голубки, ставшей символом борьбы за мир во всем мире. Но совчиновники от искусства недоглядели, и Пикассо на свою выставку сам отбирал работы — в том числе самый, как у нас считалось, «формализм». В комплекте с коллекциями Пушкинского музея и Эрмитажа выставка была радикально отличающаяся от господствующего соцреализма. Ажиотаж тоже был нешуточный — в очередях надо было провести несколько часов.
Стала знаменитой фраза Ильи Эренбурга, открывавшего выставку старого, с начала века, друга: «Товарищи, мы ждали этой выставки двадцать пять лет! Давайте спокойно подождём ещё двадцать пять минут».
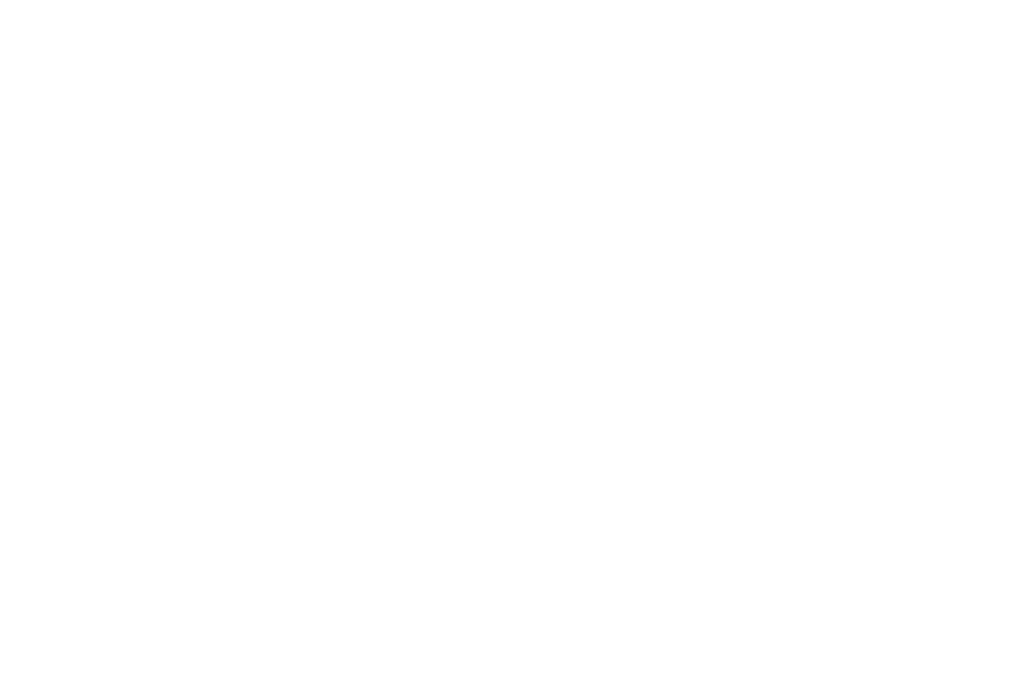
Выставка Пабло Пикассо в Москве, 1956 год. Фотография Эммануила Евзерихина с сайта cameralabs.org
Важной частью выставки было обсуждение — на стенде в холле можно было оставлять отзывы. Они были разные — от саркастических до восторженных. В Ленинграде молодёжь хотела провести публичное обсуждение — милиция предприняла всё, чтобы оно не состоялось, площадь Искусств была оцеплена, а инициаторов задержали. Так подтверждалась формула ещё дореволюционных времён, в соответствии с которой современный художник — это и бунтовщик, революционер.
Таких эксцессов, правда, больше не было. Туристический бум второй половины 50-х (инфраструктура не справлялась, в 1956 году было всего 40 тысяч интуристов, а к 1960 году ожидалось 50 тысяч туристов только из капстран) быстро был свёрнут, считается, что после того как над Уралом 1 мая 1960 года сбили американский самолёт-разведчик, страна снова стала «закрываться» — меньше приезжало туристов, советских людей стали выпускать в капстраны с большим трудом, стал сокращаться культурный и научный обмен.
Десятидневный визит советских поэтов в Париж в 1965 году (большая делегация во главе с Алексеем Сурковым, автором стихотворения «Бьётся в тесной печурке огонь…», в которую входили Александр Твардовский, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Леонид Мартынов, Виктор Соснора, Роберт Рождественский, Борис Слуцкий) с многочисленными встречами и выступлениями, посещением кладбища Пер-Лашез и Стены Коммунаров был скорее исключением, потом таких масштабных событий не было, писатели отправлялись маленькими группами и поодиночке. К тому времени загранпоездка стала привилегией, писатели разделились на «выездных» и «невыездных», и только выездные могли доносить до советского читателя свои впечатления о «городе света», «культурой столице мира». Вознесенский и Евтушенко, любившие громко жаловаться на непонимание и притеснения, из заграницы между тем не вылезали.
Таких эксцессов, правда, больше не было. Туристический бум второй половины 50-х (инфраструктура не справлялась, в 1956 году было всего 40 тысяч интуристов, а к 1960 году ожидалось 50 тысяч туристов только из капстран) быстро был свёрнут, считается, что после того как над Уралом 1 мая 1960 года сбили американский самолёт-разведчик, страна снова стала «закрываться» — меньше приезжало туристов, советских людей стали выпускать в капстраны с большим трудом, стал сокращаться культурный и научный обмен.
Десятидневный визит советских поэтов в Париж в 1965 году (большая делегация во главе с Алексеем Сурковым, автором стихотворения «Бьётся в тесной печурке огонь…», в которую входили Александр Твардовский, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Леонид Мартынов, Виктор Соснора, Роберт Рождественский, Борис Слуцкий) с многочисленными встречами и выступлениями, посещением кладбища Пер-Лашез и Стены Коммунаров был скорее исключением, потом таких масштабных событий не было, писатели отправлялись маленькими группами и поодиночке. К тому времени загранпоездка стала привилегией, писатели разделились на «выездных» и «невыездных», и только выездные могли доносить до советского читателя свои впечатления о «городе света», «культурой столице мира». Вознесенский и Евтушенко, любившие громко жаловаться на непонимание и притеснения, из заграницы между тем не вылезали.
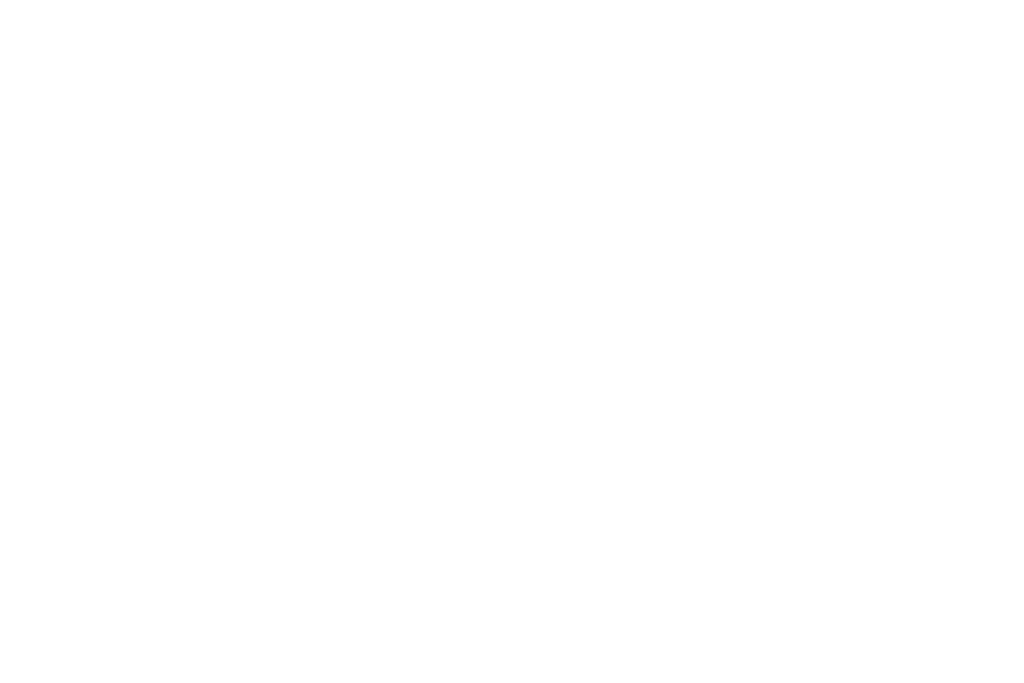
Евгений Евтушенко на пресс-конференции в отеле д,Орси, Париж,12 февраля 1963 года. Фотография Джеральда Блонкура с сайта photochronograph.ru
Впечатлений этих много, и они невероятно интересны. Поэты вслед за Маяковским оставили обширные подборки «парижского текста», особенно объёмными были парижские стихи Евгения Евтушенко, в которых фигурирует как обязательный набор туриста и перечисление реалий (Нотр-Дам, Эйфелева башня, бульвары, рестораны, устрицы, клошары и т. п.), так и попытка идеологического советского взгляда на «город контрастов».
Гораздо менее известны путевые заметки (сегодня называемые травелогами) не столь популярных авторов — в начале 80-х многие тексты были собраны в сборник «Советские писатели о Франции», в который, понятно, вошли только благонадёжные авторы. А вот Виктор Некрасов, например, к тому времени эмигрировавший в Париж, или Анатолий Гладилин, естественно, туда попасть не могли, к концу 70-х сама возможность поехать в Париж была из разряда невозможных вещей, как космическое путешествие. Некрасов, лауреат Сталинской премии за роман «В окопах Сталинграда», франкофил и диссидент, вспоминал первый визит в Париж начала 60-х — он, писал, бродил по французским улицам и не зашёл ни в один музей, даже в Лувр.
Гораздо менее известны путевые заметки (сегодня называемые травелогами) не столь популярных авторов — в начале 80-х многие тексты были собраны в сборник «Советские писатели о Франции», в который, понятно, вошли только благонадёжные авторы. А вот Виктор Некрасов, например, к тому времени эмигрировавший в Париж, или Анатолий Гладилин, естественно, туда попасть не могли, к концу 70-х сама возможность поехать в Париж была из разряда невозможных вещей, как космическое путешествие. Некрасов, лауреат Сталинской премии за роман «В окопах Сталинграда», франкофил и диссидент, вспоминал первый визит в Париж начала 60-х — он, писал, бродил по французским улицам и не зашёл ни в один музей, даже в Лувр.
И этот паттерн советского туриста не был исключением — оказывается, для многих именно улицы стали главной достопримечательностью Парижа.
Уже заканчивая этот цикл, несколько дней назад, набрасывая вот этот текст, я обнаружил, что в издательстве Гарвардского университета в 2019 году вышла книга американской русистки Элеоноры Гилберд под названием «Увидеть Париж и умереть: советская жизнь западной культуры» (To See paris and Die: The Soviet Lives of Western Culture, на русский не переведена). Меня не удивило, что в названии использован известный, как сегодня принято говорить, мем — фраза Ильи Эренбурга, переиначенная на французский манер поговорка о Неаполе, давно уже ушла в народ. Порадовало то, что в книге автор, рассматривая Париж как олицетворение всего западного мира, обозначает ровно те же реперные точки советской вестернизации (выставка французской живописи, визит Дома Диора и проч.), те же каналы проникновения информации (кино, литература, шансон, искусство, мода), перечисляет тех же «агентов влияния» (Ив Монтан, Брижит Бардо, Илья Эренбург, Пабло Пикассо и др.), что и я в этих своих заметках. Конечно, в книге гораздо больше цитат из документов, прессы, литературы, гораздо подробнее описывается контекст времени, конечно, книга более аналитична, но в целом она о том же — о том, как советский человек влюблялся в неведомый ему «Запад», придумывал его для себя и жил с этим образом…
Там есть несколько страниц прелюбопытных наблюдений о том, как советские люди, попав в впервые в Париж, воспринимали его через призму литературы (маршруты по стопам Д'Артаньяна, Растиньяка или Жюльена Сореля) и искусства (парижские пейзажи описываются в серо-лиловых тонах, в полном соответствии с колоритом картин импрессионистов, Моне и Писсарро). О том, что театр улицы становился главным туристским аттракционом, что больше всего поражали целующиеся публично парочки. О том, что парижский миф долго был определяющим в оптике советского человека, и только у советских писателей-эмигрантов (Лимонов, Некрасов, Юрьенен, Савицкий) появляется другое, более реальное, с упором на негатив, видение французской жизни.
Там есть несколько страниц прелюбопытных наблюдений о том, как советские люди, попав в впервые в Париж, воспринимали его через призму литературы (маршруты по стопам Д'Артаньяна, Растиньяка или Жюльена Сореля) и искусства (парижские пейзажи описываются в серо-лиловых тонах, в полном соответствии с колоритом картин импрессионистов, Моне и Писсарро). О том, что театр улицы становился главным туристским аттракционом, что больше всего поражали целующиеся публично парочки. О том, что парижский миф долго был определяющим в оптике советского человека, и только у советских писателей-эмигрантов (Лимонов, Некрасов, Юрьенен, Савицкий) появляется другое, более реальное, с упором на негатив, видение французской жизни.
Да что там, именно так и я сам видел Париж в свой первый визит. В полном соответствии с написанным лет за десять до него стишком: кафе, бульвары, жареные каштаны и «Житан», Утрилло и Моне, узнаваемые в узких улочках…
Да, представления советских людей о Франции и французской жизни были литературны, закультурены, фрагментарны, неточны, приблизительны, будто осколки зеркала, в придачу искривлённого… Можно добавить, что они были утопичны и идеалистичны, советский человек, не доверявший официально пропаганде, французскую жизнь конструировал «В розовом цвете», как в знаменитой песне Пиаф.
К началу 80-х образ Парижа стал в массовом сознании настолько иллюзорным и сказочным (об ощущении нереальности впервые увиденного Парижа вспоминала уже Ахмадулина), что становится чистым вымыслом. У Михаила Веллера в одном его рассказе герой, мечтающий о Париже, учит язык, постигает культуру, изучает путеводители, добивается, в конце концов, заграничной турпутёвки, разинув рот ходит по парижским улицам, пока не замечает под ногами чугунный люк канализационного колодца, на крышке которого написано: «Кемеровский металлургический завод». И тут же, как в сказке, весь Париж превращается в декорацию…
Я не случайно, пытаясь рассказать о советской галломании, определяю это феномен временными рамками с середины 50-х до середины 80-х. Начавшаяся перестройка и крах Советского Союза смели идеалистически-романтическое отношение к Западу в целом и Франции в частности, заменив практическим интересом.
К началу 80-х образ Парижа стал в массовом сознании настолько иллюзорным и сказочным (об ощущении нереальности впервые увиденного Парижа вспоминала уже Ахмадулина), что становится чистым вымыслом. У Михаила Веллера в одном его рассказе герой, мечтающий о Париже, учит язык, постигает культуру, изучает путеводители, добивается, в конце концов, заграничной турпутёвки, разинув рот ходит по парижским улицам, пока не замечает под ногами чугунный люк канализационного колодца, на крышке которого написано: «Кемеровский металлургический завод». И тут же, как в сказке, весь Париж превращается в декорацию…
Я не случайно, пытаясь рассказать о советской галломании, определяю это феномен временными рамками с середины 50-х до середины 80-х. Начавшаяся перестройка и крах Советского Союза смели идеалистически-романтическое отношение к Западу в целом и Франции в частности, заменив практическим интересом.
Границы открылись, невозможное стало возможно — были бы желание и деньги. Можно стало слушать шансон, читать французские газеты и книги, смотреть фильмы, изучать искусство — и даже не выезжать для этого за пределы своей страны.
Тем более что шок 90-х потряс и бескорыстную прежде галломанию — оказалось, что мы в Париже, как в песне Владимира Высоцкого (при всей романтичной истории женитьбы на Марине Влади не нашедшего понимания и интереса во Франции) нужны, как в русской бане лыжи. Обида и разочарование — вот что могли почувствовать советские франкофилы, столкнувшиеся с реальностью западного мира. Едко-сатирическое «Окно в Париж» Юрия Мамина — самый яркий, пожалуй, пример изменившегося умонастроения, отчасти инфантильного.
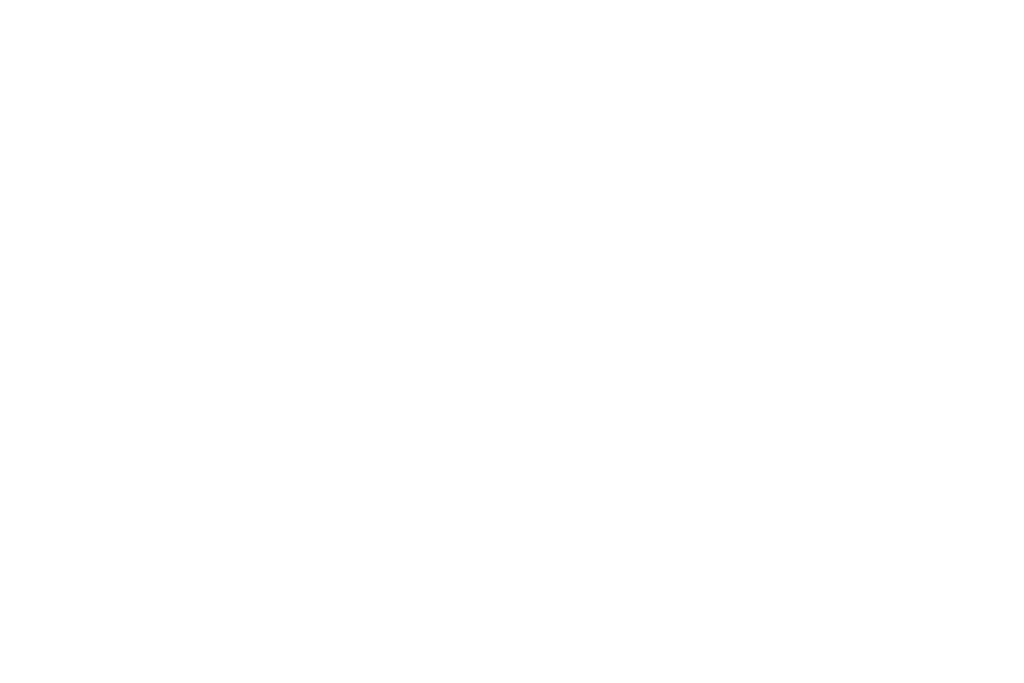
Вид на Эйфелеву башню в сумерках с вершины башни Монпарнас. Фотография Рафаэля Лопеса, unsplash.com
Пережив к своим годам много увлечений и разочарований, страстей и измен, я и сейчас, мне в этом не стыдно признаться, продолжаю столь же пылко, как и в юности, любить Францию, французскую культуру, язык. Любить бескорыстно и не особо взаимно. Для этого мне не обязательно менять страну проживания и отказываться от своей культуры, мне хватает возможности читать, переводить (тем более что это стало профессией), смотреть французское кино. И иногда (гораздо реже, чем хотелось бы) бывать во Франции. Париж, в полном соответствии с названием поздней книги Хемингуэя, не потерявшей до сих пор своего обаяния и шарма, это праздник, который всегда с тобой. С нами. Пур тужур.
Фр. Pour Toujours — «навсегда».
Галломания в СССР.
Синема молодости нашей
Французского кино в Советском Союзе было много, и оно было разным. Больше, и то не намного, показывали только кино индийского. Оглядываясь назад и просматривая списки зарубежных фильмов в советском прокате с 50-х до перестройки, поражаешься, сколько хороших картин больших режиссёров доходило до зрителя: Рене Клера, Марселя Карне, Анри-Жоржа Клузо, Робера Брессона, Франуса Трюффо… Да, далеко не все. Да, многие ленты не шли «первым» экраном, их надо было выслеживать в афишах маленьких залов, но тем не менее. При желании внимательный и заинтересованный зритель мог составить достаточно репрезентативное представление о синема франсэ за полвека.
поделитесь статьей