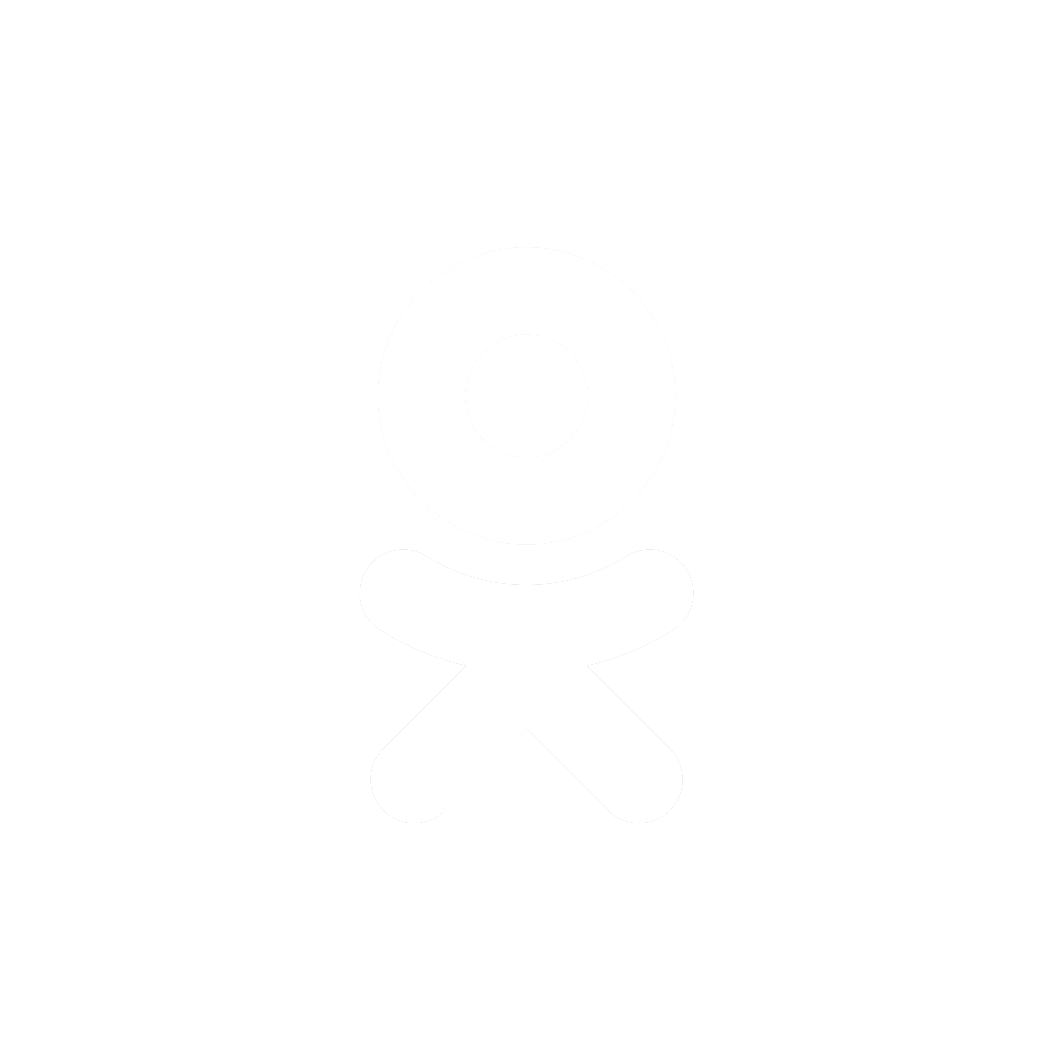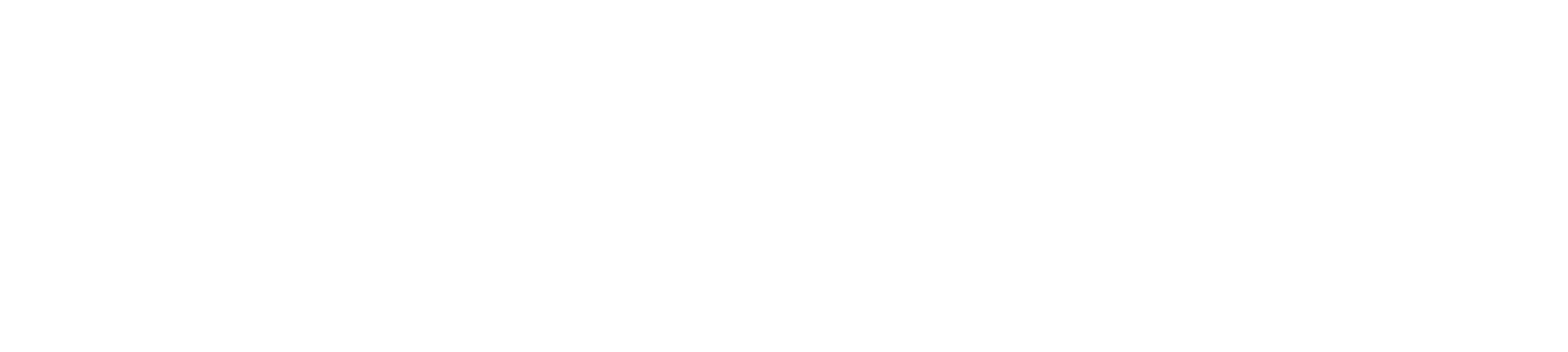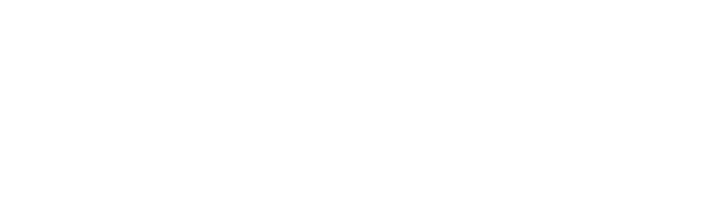«Снегурочка. Лаборатория»: ледокол мозга.
Tilda Publishing
«Старый дом» переосмыслил весеннюю сказку Островского
КУЛЬТУРА
Игорь Смольников
«Снегурочка. Лаборатория»: ледокол мозга.
Tilda Publishing
«Старый дом» переосмыслил весеннюю сказку Островского
КУЛЬТУРА
Игорь Смольников
Театр «Старый дом» ввёл весеннюю традицию, которая способна заставить испытывать когнитивный диссонанс всех, кто воспринимает само слово «традиция» плоско и буквально.
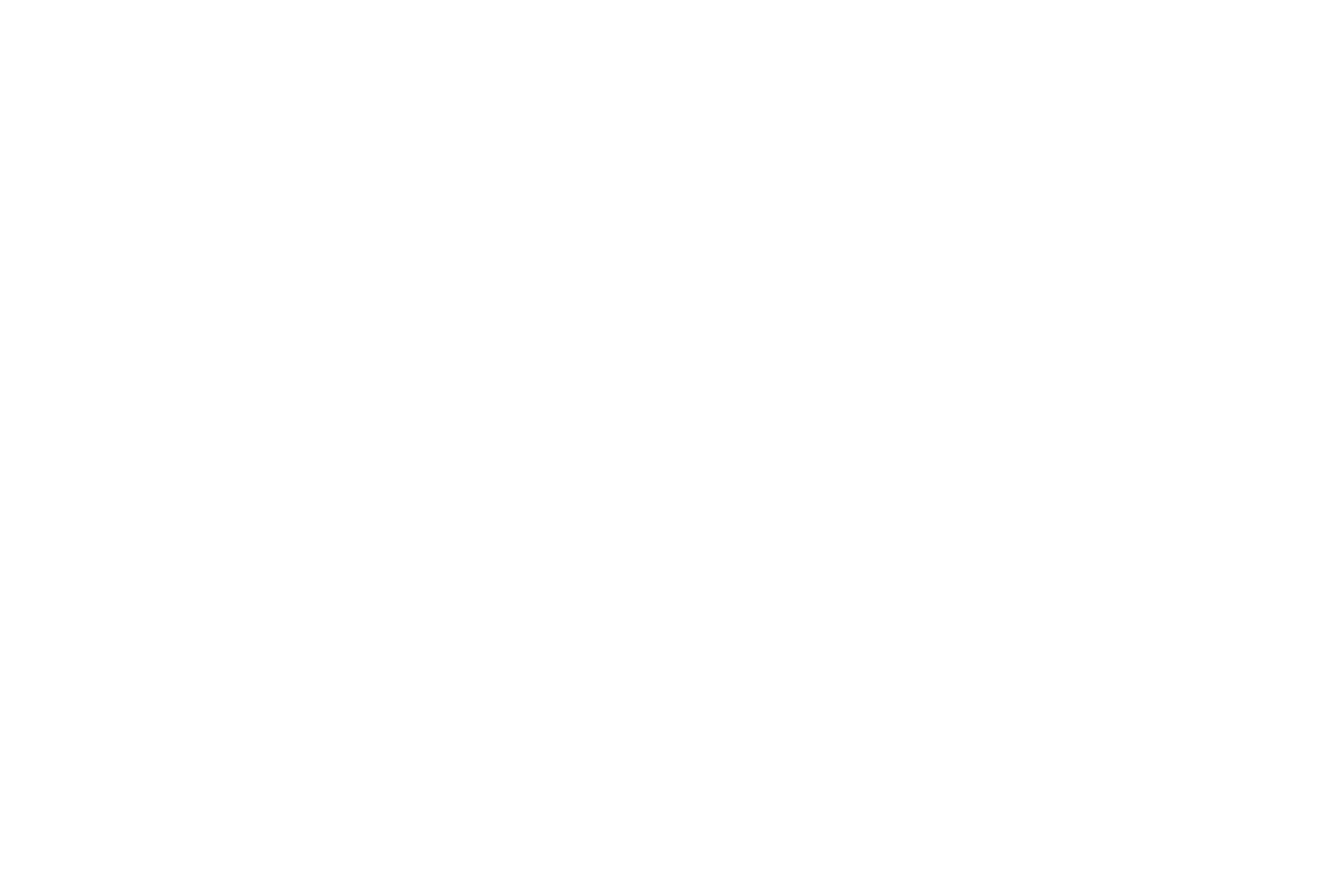
Пьеса Александра Островского «Снегурочка» — зрелище с такой же яркой сезонностью, как и «Щелкунчик» в балете. «Щелкунчик» — это Новый год, ёлки и аромат мандаринов, «Снегурочка» — капель, мимозы и птичий хор. Потому что «весенняя сказка», как указано в авторской развёртке названия. Очень долго эта самая «Снегурочка» Островского была зрелищем пышным, чинным и предсказуемым. Традицией, в общем. До тех пор, пока театр «Старый дом» и режиссёр Галина Пьянова не переосмыслили эту громоздкую старинную пьесу в духе лабораторного театра. «Снегурочка. Лаборатория» — это, пожалуй, и впрямь главное зрелище театральной весны. Её must see. Очень ярко, очень необычно и рекомендуемо к просмотру.
Сценический дебют «стародомовской» «Снегурочки» пришелся на 2017-й, был отмечен двумя «Золотыми Масками» (за смелость эксперимента и за костюмы), но накал хайпа по поводу снежной девы не остыл и в 2021-м.
«Снегурочка. Лаборатория» — зрелище, которое либо влюбляет в себя, либо шокирует. Только равнодушным не оставляет. Сюрреалистическая визуальность от Антона Болкунова и Елены Турчаниновой и не менее завораживающая музыка от Александра Маноцкова.
Лагерь шокированных хором возопил: «Кощунники, на святое замахнулись!» Ну, у защитников канонов замах на святое — любимая фигура речи. Хотя мне, честно говоря, неясно, в чем святость пьесы про языческие, вообще-то, времена. В антологии Островского эта пьеса не числится предметом авторской гордости. После «Снегурочки» к сказкам Островский не обращался. Осмелюсь даже предположить, почему — потому что не очень-то и получилось. Аморфно-узорчатая структура оригинальной «Снегурочки» равно мучительна и для постановщика, и для зрителя. Тем не менее в дежурном репертуаре многих театров она числится, экранизации подверглась аж дважды (игровой и анимационной), на неё строем водят детей в культпоходы. Ну, полагается же. Островский же. Сказка же. Детям самое то…
Лагерь шокированных хором возопил: «Кощунники, на святое замахнулись!» Ну, у защитников канонов замах на святое — любимая фигура речи. Хотя мне, честно говоря, неясно, в чем святость пьесы про языческие, вообще-то, времена. В антологии Островского эта пьеса не числится предметом авторской гордости. После «Снегурочки» к сказкам Островский не обращался. Осмелюсь даже предположить, почему — потому что не очень-то и получилось. Аморфно-узорчатая структура оригинальной «Снегурочки» равно мучительна и для постановщика, и для зрителя. Тем не менее в дежурном репертуаре многих театров она числится, экранизации подверглась аж дважды (игровой и анимационной), на неё строем водят детей в культпоходы. Ну, полагается же. Островский же. Сказка же. Детям самое то…
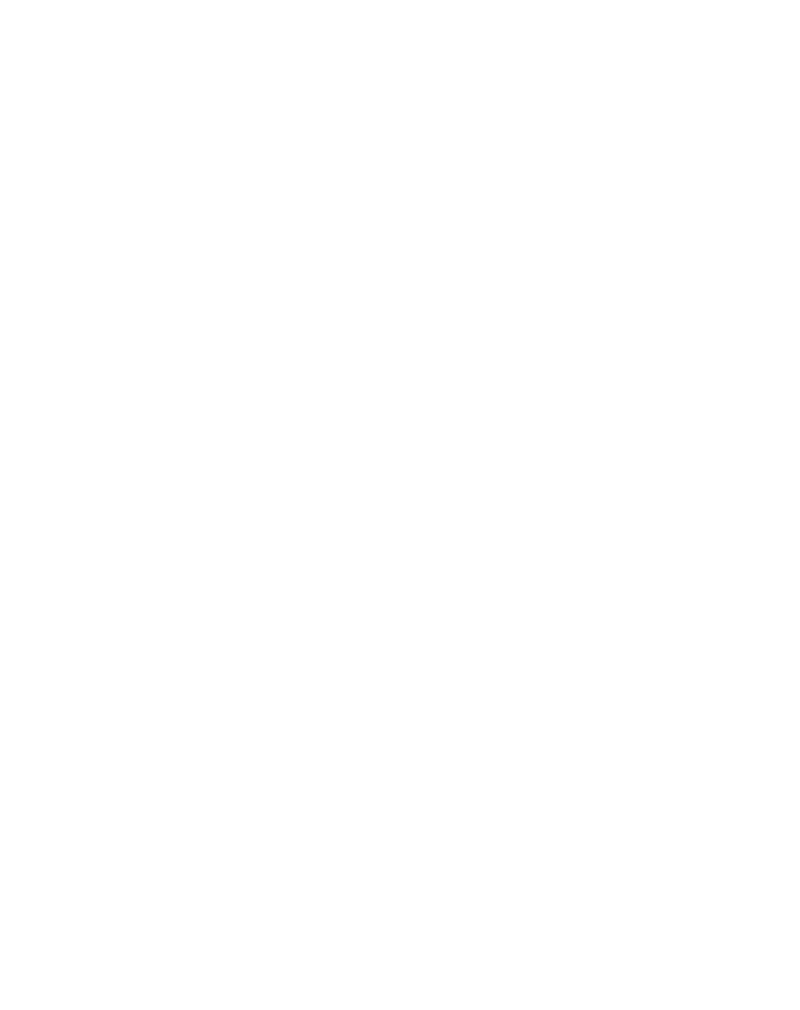
«Стародомовская» «Снегурочка», напротив, затеяна как зрелище заведомо недетское. С пометкой, как на табачном киоске: для тех, кто старше 18. Ибо там, мол, есть не только любовь из мира прелестных снегурочек и русалочек, но и секс из мира грешных и несовершенных людей.
Уточню. Секса там… Ну, не то чтобы совсем нет. Секса там… есть.
Конечно, не в такой форме и дозировке, чтобы сокрушить мораль и психику школьного юношества. Уверяю, детвора сейчас и не такое видала.
А сейчас скажу крамольное: «Снегурочке» вообще очень вредит пометка «18+». Потому что спектакль Пьяновой и Маноцкова был бы отличным способом влюбить в театр тех, кому как раз «до шестнадцати».
Уточню. Секса там… Ну, не то чтобы совсем нет. Секса там… есть.
Конечно, не в такой форме и дозировке, чтобы сокрушить мораль и психику школьного юношества. Уверяю, детвора сейчас и не такое видала.
А сейчас скажу крамольное: «Снегурочке» вообще очень вредит пометка «18+». Потому что спектакль Пьяновой и Маноцкова был бы отличным способом влюбить в театр тех, кому как раз «до шестнадцати».
Тех, кто мается в школьных культпоходах, шуршит фантиками сникерсов, нарочито цинично гыгыкает. Тех, кто считает театр унылой и невкусной культурной пилюлей, навязанной училками. Кстати, именно спектакли по Островскому обычно становятся дежурной жертвой школярского скепсиса. И «Снегурочка» в том числе. Та, которая в классическом прочтении, с громоздкими диалогами, с песнями по бога Ярилу, с узорчатой сценографией из теремов, коловратов, льняных рубах и париков под горшок.
Сколько ни приходилось наблюдать юных зрителей классической «Снегурочки» — ни разу не показалось, чтобы рассказанная со сцены история школоте «зашла».
Самых циничных школоло веселит гомоватый Лель-травести (господи, ну почему, мать вашу, Леля всегда играют тётеньки постбальзаковского возраста?!), любителей активного действа усыпляет тягучая, напевно-сбивчивая повествовательность. Короче, не складывается у младшего юношества с каноничной весенней сказкой. Не берусь обвинять молодёжь в душевном оскудении. Молодёжь — она разная. Может быть, просто ритм в мире изменился? Или «Снегурочка» в канонической версии изначально не очень съедобна? Или то и другое?
И вот как раз этим, «младым и незнакомым», обновлённая «Снегурочка» очень бы пригодилась. Ибо спектакль производит wow-эффект — качество, очень существенное для постинформационного поколения.
Сколько ни приходилось наблюдать юных зрителей классической «Снегурочки» — ни разу не показалось, чтобы рассказанная со сцены история школоте «зашла».
Самых циничных школоло веселит гомоватый Лель-травести (господи, ну почему, мать вашу, Леля всегда играют тётеньки постбальзаковского возраста?!), любителей активного действа усыпляет тягучая, напевно-сбивчивая повествовательность. Короче, не складывается у младшего юношества с каноничной весенней сказкой. Не берусь обвинять молодёжь в душевном оскудении. Молодёжь — она разная. Может быть, просто ритм в мире изменился? Или «Снегурочка» в канонической версии изначально не очень съедобна? Или то и другое?
И вот как раз этим, «младым и незнакомым», обновлённая «Снегурочка» очень бы пригодилась. Ибо спектакль производит wow-эффект — качество, очень существенное для постинформационного поколения.
Да, wow-эффект — не очень академичный термин. Но он есть. А как говорила Раневская, раз есть реалия, должно быть и слово. За wow-эффект в лабораторной «Снегурочке» отвечает множество факторов.
- Во-первых, практически полная бессловесность. Учитывая то, как тяжёл и приторен расшитый петухами язык «Снегурочки» оригинальной, сия потеря не очень-то и трагична.
- Во-вторых, это опера. Но опера не пения, а звучания. Вместо монологов и диалогов — звуки. То завораживающие, то ошарашивающие.
- В-третьих, это очень стильное, очень дизайнерское зрелище. И даже, не побоюсь этого слова, модное. Предметный мир «Снегурочки», лаконично построенный Антоном Болкуновым из горбыля и белых плоскостей, временами напоминает не только зимний лес, но и суши-бар, и крафтовую бургерную, и лофт, и деним-стор. И прочие модные у постинформационного поколения локации. Актёры (а это весь молодой состав «Старого дома») одеты в очень стильные костюмы Елены Турчаниновой, напоминающие одновременно об условной фантазийной древности, о галактике Кин-дза-дза, о street look'ах современных мегаполисов и об одежде героев киберпанкового аниме. По яркости зрелища это временами даже напоминает театр моды — странный формат из перестроечных 80-х, исчезнувший вместе с той эпохой. Уточню, что яркость тут особая — не сладко-фломастерная, а-ля Bеnetton, а графически острая, обжигающая, как металл на морозе, — из оттенков стали, пепла и кумача.
- В-четвертых, это зрелище эмоциональное и захватывающее. Звукоряд от Александра Моноцкова и телесно-пластический язык от Олега Жуковского нарисовали мир, совсем не похожий на славянскую Аркадию «Снегурочки» прежней. Колкий, мерцающий острыми звуками мир, из которого на 15 лет ушли солнце и тепло (да-да, 15-летняя зима, привет вам от Джорджа Мартина). В этом остывшем мире маются стильно-жутковатые берендеи, похожие на злых детей из постапокалиптического аниме.
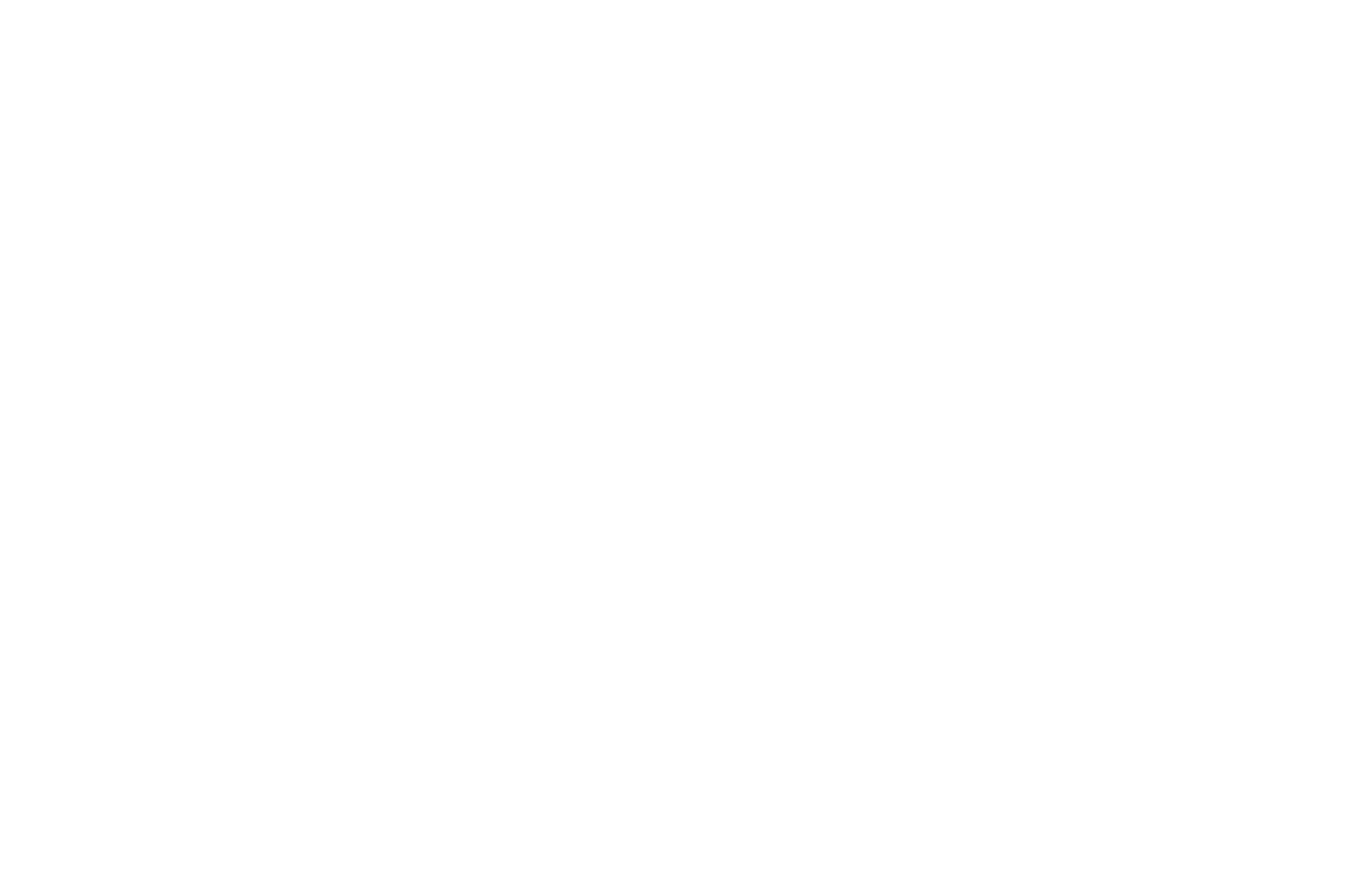
Маются, призывая солнце бессловесным языком звуков и движений. На этот отчаянный, почти злой зов приходит не солнце, а странная девочка ниоткуда (Наталья Авдеева). Отрешённая до аутизма, но с чарующим, возносящимся к небу голосом — чудом гармонии, которого не было до того в клочковатом мире берендеев.
Берендеи дара-явления не поняли. В каноничной пьесе Снегурочка погибла в их мире от любви. В «лабораторной» версии Снегурочку пытается съесть и переварить озябший, озлобленный от сиротства социум, где никакой любви и не жило. Любовь тут — только сама Снегурочка. Остальные — скорее, антигерои. Точнее, антилирические герои. Все. Даже те, кого наша полудетская память о той, прежней пьесе, назначала «няшами». Например, Лель (Тимофей Мамлин) в этой версии «Снегурочки» — не румяный желтокудрый купидон-травести в льняной рубашонке, а почти хтонический альфа-самец атлетического сложения. И шотландский килт на его чреслах эту клокочущую альфасамцовость как раз не гасит, а делает гротескно-пугающей. И это не милый антипод Мизгиря (Ян Латышев), а столь же мутноватое создание, лукавый языческий божок. В котором чуток от Пана, чуток от Ареса, чуток от мелкого беса. Ну, а что Мизгирь не милый до отметки «совсем», думаю, никому объяснять не надо. Мизгирь — это, вообще-то, на древнерусском «паук». Как говорится, хорошего человека пауком не назовут.
От вида брутального Леля в килте ревнители-охранители стонут и завывают. Но почему бы и нет? Раз возможен мохнатый шмель Паратов-Михалков, почему бы не быть Лелю-бруталу?
Берендеи дара-явления не поняли. В каноничной пьесе Снегурочка погибла в их мире от любви. В «лабораторной» версии Снегурочку пытается съесть и переварить озябший, озлобленный от сиротства социум, где никакой любви и не жило. Любовь тут — только сама Снегурочка. Остальные — скорее, антигерои. Точнее, антилирические герои. Все. Даже те, кого наша полудетская память о той, прежней пьесе, назначала «няшами». Например, Лель (Тимофей Мамлин) в этой версии «Снегурочки» — не румяный желтокудрый купидон-травести в льняной рубашонке, а почти хтонический альфа-самец атлетического сложения. И шотландский килт на его чреслах эту клокочущую альфасамцовость как раз не гасит, а делает гротескно-пугающей. И это не милый антипод Мизгиря (Ян Латышев), а столь же мутноватое создание, лукавый языческий божок. В котором чуток от Пана, чуток от Ареса, чуток от мелкого беса. Ну, а что Мизгирь не милый до отметки «совсем», думаю, никому объяснять не надо. Мизгирь — это, вообще-то, на древнерусском «паук». Как говорится, хорошего человека пауком не назовут.
От вида брутального Леля в килте ревнители-охранители стонут и завывают. Но почему бы и нет? Раз возможен мохнатый шмель Паратов-Михалков, почему бы не быть Лелю-бруталу?
А царь Берендей (Анатолий Григорьев), пытающийся побыть силой, упорядочивающей хаос, является к подданным в таком виде, что сразу понятно — однозначным этот процесс борьбы с хаосом не будет. Явление монарха зал встречает понимающими смешками — он выходит из недр дощатого леса по алой ковровой дорожке, одетый не в фантастические хламиды берендеев, а в безупречный деловой костюм. Телесность царя узнаваемо совмещает некрупность и державную стать. Он приветствует подданных фортепианным экспромтом. Тут мой внутренний хулиган заегозил, ожидая, что сейчас Берендей нарисует кошку, вид сзади. Или скажет: «Буду краток». Но обошлось. Спектакль удержался на грани иронического эквилибра, не скатившись в мелкотравчатый, картавящий и подхихикивающий диссидентский юморок.
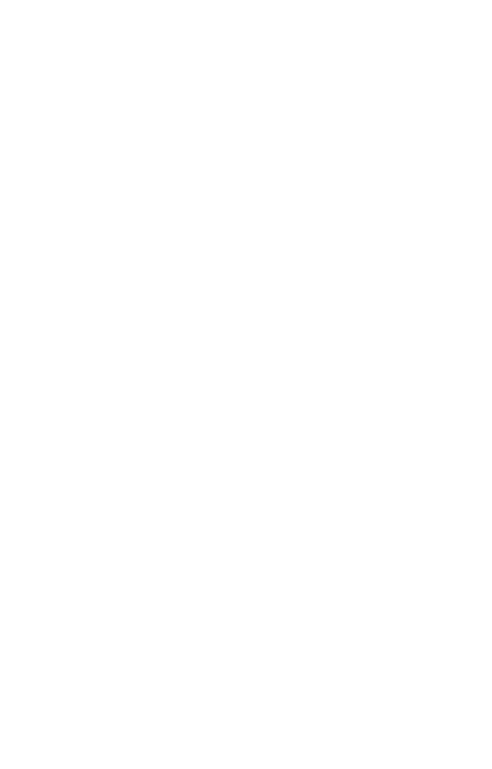
Берендей, к слову, это ещё и единственный наделённый речью персонаж. Но речь эта — скорее не текст, а фонетическое барокко. Фразы со смещённой интонацией и слова со смещённым ударением хоть и русские, но звучат как пугающее воркование инопланетного существа. Повелителя холодной планеты-зимы, где за фанатичным ожиданием солнца аборигены готовы смять и раскатать в квадрат то, что ещё чудеснее солнца — пришедшую свыше Любовь. Не в награду пришедшую, не в ответ на мольбы. Просто так. Без выгоды. Любовь — она вообще такая дурочка, знаете ли…
В итоге попытки берендеев приземлить и разогнуть в прямую палку непонятное им чудо кристаллизуются в свадьбу Снегурочки с Мизгирём. Такого поворота Островский не планировал, но для мира ЭТОЙ сказки такой поворот вполне органичен. Подвенечный наряд Снегурочки, напоминающий гигантскую кружевную салфетку (вроде тех, на коих подают фуршетные вкусняшки), придаёт сцене свадьбы оттенок каннибальского жертвоприношения.
В итоге попытки берендеев приземлить и разогнуть в прямую палку непонятное им чудо кристаллизуются в свадьбу Снегурочки с Мизгирём. Такого поворота Островский не планировал, но для мира ЭТОЙ сказки такой поворот вполне органичен. Подвенечный наряд Снегурочки, напоминающий гигантскую кружевную салфетку (вроде тех, на коих подают фуршетные вкусняшки), придаёт сцене свадьбы оттенок каннибальского жертвоприношения.
Впрочем, Снегурочка не становится сожранной жертвой. И растаявшей снежной девой из пьесы-исходника тоже не становится — она просто исчезает. Исчезновение — это не смерть, не таяние. Это именно уход. Мол, я была, я пыталась, я ушла, живите как хотите.
И именно этот безмолвный уход производит впечатление раскатистого дверного хлопка. Оглушительная, ударяющая, наказующая тишина для суетного социума, который не разглядел и не расслышал приходившую к нему Любовь.
Кстати, в одной из «афанасьевских» версий народной сказки, которая в советское время общедоступно не печаталась, тоже хватает сумрачного гротеска. Там Снегурочка не таяла в результате игры с костром. Она вообще была вполне обычным, молекулярно стабильным ребёнком. Снегурочку в той версии убили девочки-подружки, позавидовавшие её успеху в сборе ягод. Снегурочка в итоге явилась согражданам с первым снегом в виде призрака и изобличила главгадину, «альфу» вероломных подружек. И ту увели в лес на волю судьбы (в языческой Руси такое наказание для крупно накосячивших детей было весьма популярно — и остальной детворе назидание, и духам леса подарочек).
Кстати, в одной из «афанасьевских» версий народной сказки, которая в советское время общедоступно не печаталась, тоже хватает сумрачного гротеска. Там Снегурочка не таяла в результате игры с костром. Она вообще была вполне обычным, молекулярно стабильным ребёнком. Снегурочку в той версии убили девочки-подружки, позавидовавшие её успеху в сборе ягод. Снегурочка в итоге явилась согражданам с первым снегом в виде призрака и изобличила главгадину, «альфу» вероломных подружек. И ту увели в лес на волю судьбы (в языческой Руси такое наказание для крупно накосячивших детей было весьма популярно — и остальной детворе назидание, и духам леса подарочек).
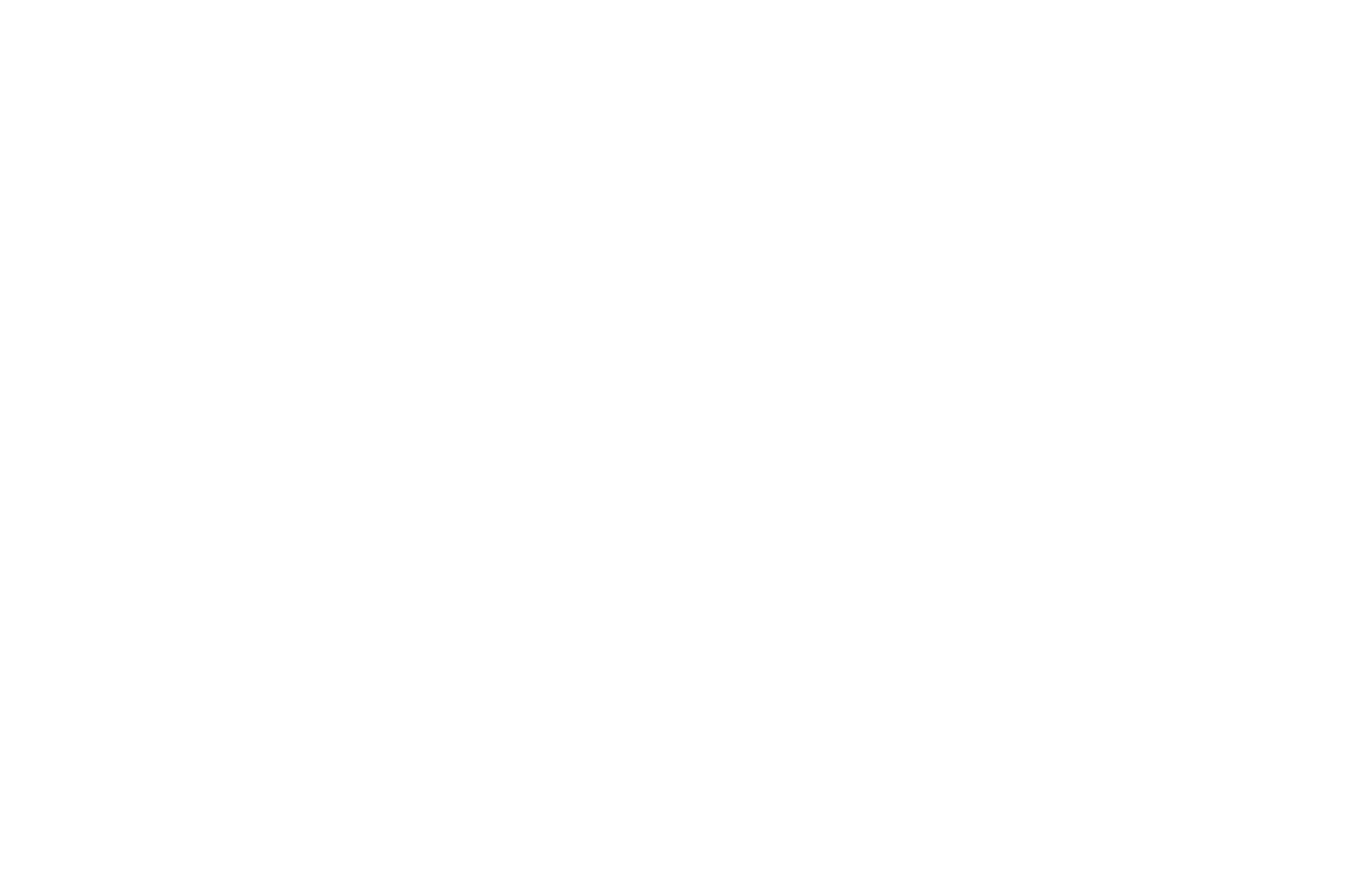
В общем, история о чудесной девушке из зимнего леса рассказана по-новому, по-своему, без слов, но ошеломительно внятно. За это респект и всем материализаторам этого мира, и тому, кто наделил этот мир альтернативным языком. Я о пластическом решении от Олега Жуковского. Оно получилось очень сочным, графично-точёным.
А еще «Снегурочка. Лаборатория» очень убедительна в статусе объекта культурного туризма. Театралам из соседних городов есть смысл приезжать к нам не только ради монументальных новатовских зрелищ, но и ради берендеева леса на сцене маленького театра.
поделитесь статьей