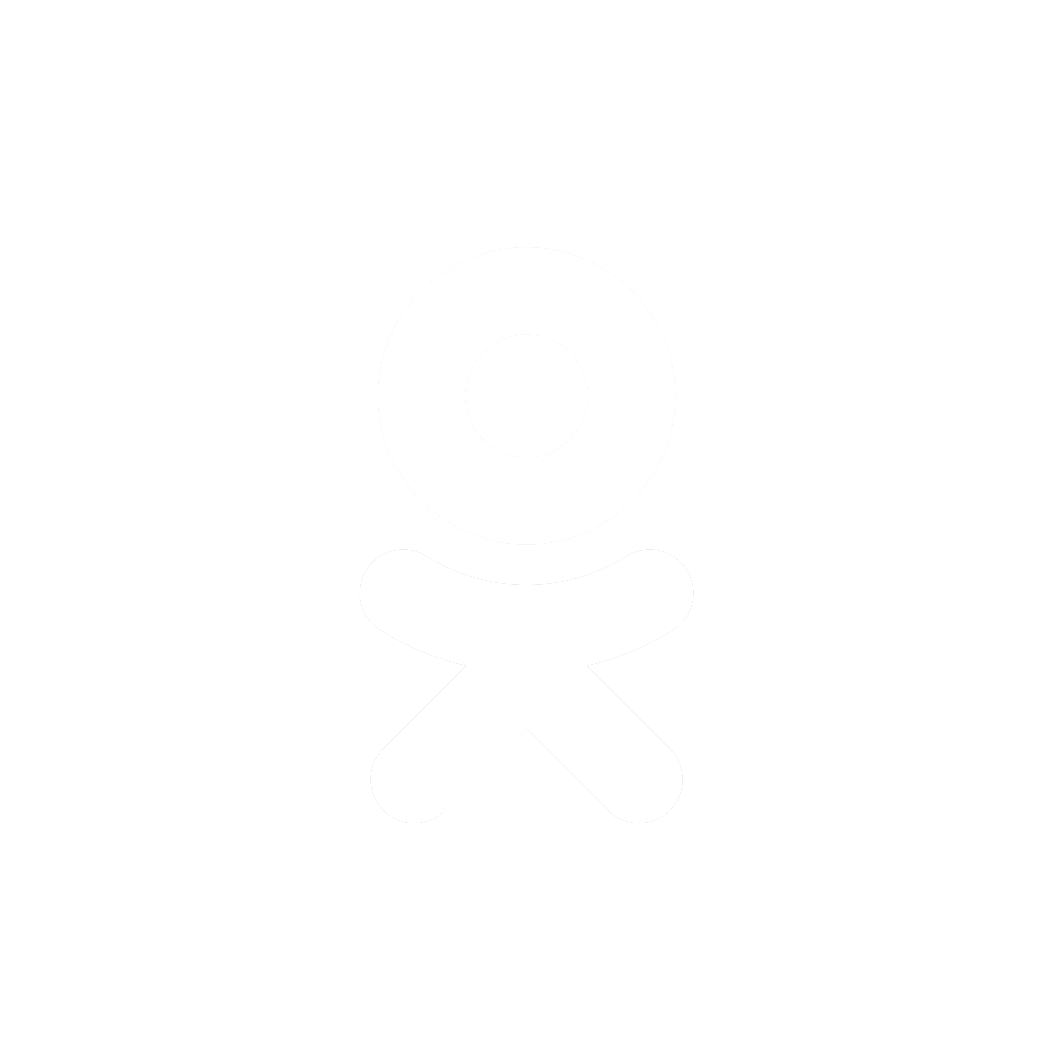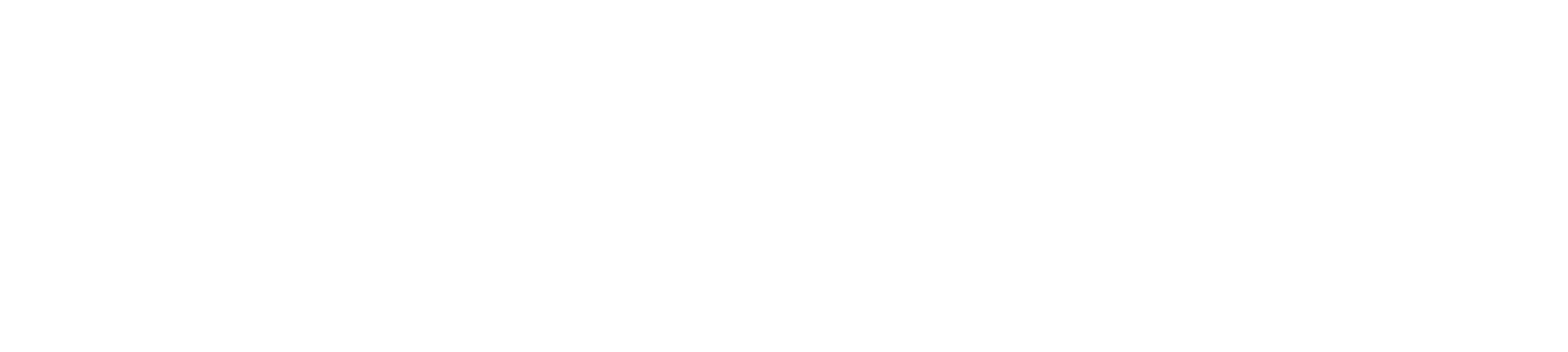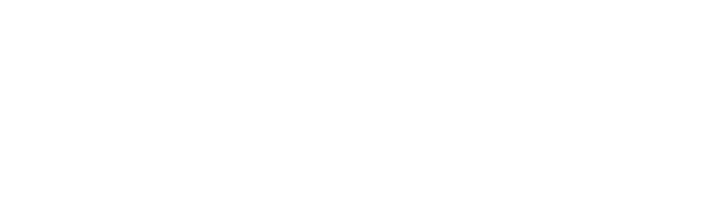Напряжение Владимира Хананова
Tilda Publishing
КУЛЬТУРА
Антон Веселов
Напряжение — это, как известно, разность потенциалов. Например, потенциалов дизайнера и художника или оформителя и рисовальщика. Оформивший более восьмидесяти изданий научно-популярной и художественной литературы, всевозможно премированный дизайнер, книгочей и хранитель литературных образов Владимир Хананов после первой персональной выставки графики (до этого были только дизайнерские) именуется не иначе как выдающийся рисовальщик.
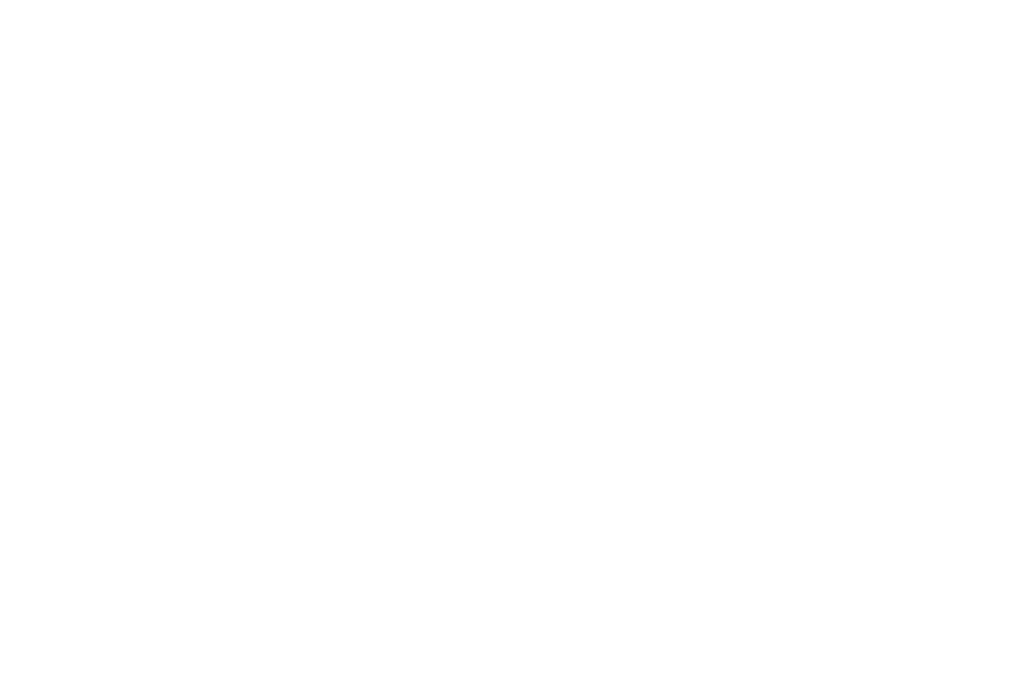
Владимир Хананов. Фотография предоставлена Владимиром Ханановым
Он родился на юге Алтая, учился у известного художника Владислава Тихонова, поступал на живописно-педагогическое отделение, а вышел художником-оформителем из стен Новоалтайского государственного художественного училища. Последние 40 лет живет и бодро работает в Новосибирске.
— Дизайн и живопись — кажется, это не просто несхожие образовательные линии, а прямо-таки два непримиримых студенческих мира. Вы ведь планировали стать живописцем?
— Да, поступал на живопись, хотел писать картины, пейзажи. Но вышло так, как вышло.
Не всякий творческий человек, который умеет рисовать, художник. И не всякий дизайнер обязан уметь рисовать в классическом смысле.
У Леонида Тишкова даже книжка есть «Как стать гениальным художником, не имея ни капли таланта»… Когда я из своего Рубцовска приехал в Новоалтайск и посмотрел на работы других абитуриентов, к своему ужасу понял, что не пройду предварительный конкурс. Я учился в «свободной» студии, как таковой программы в ней не было. Педагог, Владислав Владимирович Тихонов, предлагал нам больше рисовать с натуры. Главный учитель — Природа! В случае чего — правил. Так что за программу я взялся сам — весь десятый класс ставил себе натюрморты и рисовал на время, 3–4 дня на постановку. Даже забросил секцию классической борьбы — некогда стало.
Приехал с рисунками и… опоздал на предварительный просмотр. Представляете, пустое училище! Мне помогли, нашли случайно оказавшегося на работе преподавателя.
На счастье, это был Николай Михайлович Смирнов — он-то и набирал курс. Меня привели в его мастерскую, и я тут же застелил половину свободного пространства своими работами. Общий вердикт педагоги вынесли строгий: рисунок неплохой, а вот в живописи стоит годик потренироваться… Думаю, всё пропало — через годик армия… Но решал Николай Михайлович: «Пусть сдаёт документы, — сказал. — Нагонит!» Окрылённый, я вскоре приехал сдавать документы. И снова попал в переплёт: конкурс 10–15 человек на место, и на эти места вместе со мной претендуют выпускники художественных школ Барнаула. Это же почти профессионалы! Решил, пройду это всё до конца — просто ради опыта. И, к своему удивлению, по специальности заработал четвёрки — пятёрки тогда совсем не ставили. Рисунок, живопись, композиция, собеседование, экзамены по литературе, русскому, истории… так, шаг за шагом все прошёл. И поступил!
— Наши выдающиеся борцы, и Карелин, и Власов, замечали, что в борьбе важна рассудочная страсть, выдержка. Борец — больше стратег, чем тактик. А стратегия часто определяется за год до решающей схватки. Важно вовремя запустить верный алгоритм. Возможно (могу только предполагать), выдержка и стратегия в искусстве — заслуга мастера, который тренировал вас в секции борьбы. Удачливость тоже сыграла свою роль, конечно…
— Мой тренер — мастер спорта СССР Виктор Сергеевич Бочевар, русский румын. Великолепный учитель и борец. Он преподавал борьбу как искусство. Потом уже я понял, что мне нравятся классическая борьба, классическая музыка и… классический рисунок. Всё классическое!)
Бочевар учил как приёмам, так и контрприёмам. Владея и тем, и другим, можно победить в схватке примерно равных по силе соперников. Всё зависит от ловкости, опыта, искусства.
Бочевар учил как приёмам, так и контрприёмам. Владея и тем, и другим, можно победить в схватке примерно равных по силе соперников. Всё зависит от ловкости, опыта, искусства.
Мне это здорово психологически помогало потом в дизайне, когда приходилось бороться с материалом, темой, заказчиком…
Про художественное образование. Хорошо, когда ты попадаешь к мастеру и проходишь у него полный курс… Вот Ира Хананова — тогда Фомина, талантливая красивая девочка на параллельном курсе — попала к главному художнику Алтайского книжного издательства Владимиру Александровичу Раменскому и всю программу без перерыва проучилась у него. Со мной так не вышло. Моя учёба получилась разорванной на три или даже четыре части.
После первого курса, когда мы только-только взяли разгон, меня призвали в армию. «Косить» было не принято. А позднее я понял, что в этом даже была какая-то доля провидения. Я попал служить в Московский военный округ, в город Чехов, раньше он назывался станция Лопасня. В 15 километрах — усадьба Мелехово, где Чехов написал свои лучшие произведения. Потом в советское время Лопасню переименовали в город Чехов. В этом старинном городе была ещё достопримечательность — усадьба Пушкиных, Гончаровых, Ланских, Васильчиковых, музей-усадьба «Лопасня-Зачатьевское». Городской парк — это усадебный парк.
Представляете, искусственные заводи, вековечные липовые аллеи, церковь, в ограде — фамильный некрополь Пушкиных: Александр Александрович Пушкин, сестры Гончаровы…
Представляете, искусственные заводи, вековечные липовые аллеи, церковь, в ограде — фамильный некрополь Пушкиных: Александр Александрович Пушкин, сестры Гончаровы…
— Не служба, а художественная экспедиция.
— Я себя так и чувствовал, как на музейной практике — читаю Чехова и гуляю по усадьбе Чехова. Идёшь по дорожке и думаешь: вот сейчас Антон Павлович из-за поворота выйдет с Левитаном. Природа подмосковная усиливала эффект — дубовые и липовые рощи. Левитановские мотивы, он всё там переписал.
А ещё я имел возможность ездить в Москву в Третьяковскую галерею, Пушкинский музей — это 40 минут на электричке. Наконец, Чехов — это между Подольском и Серпуховым, где находились лакокрасочные заводы Союза художников… Так что краски, холсты и кисти у меня были в избытке.
Я попал в инженерные войска, в школу младших специалистов — там быстро выяснили, что я художник. Поэтому курсантом я был всего месяц. После присяги меня перевели в штаб, в мастерскую. «Вот тебе тестовое задание, вот мольберт, кисти, краски, покажи, что умеешь», — говорят.
А ещё я имел возможность ездить в Москву в Третьяковскую галерею, Пушкинский музей — это 40 минут на электричке. Наконец, Чехов — это между Подольском и Серпуховым, где находились лакокрасочные заводы Союза художников… Так что краски, холсты и кисти у меня были в избытке.
Я попал в инженерные войска, в школу младших специалистов — там быстро выяснили, что я художник. Поэтому курсантом я был всего месяц. После присяги меня перевели в штаб, в мастерскую. «Вот тебе тестовое задание, вот мольберт, кисти, краски, покажи, что умеешь», — говорят.
Им был нужен оформитель, а я учился на живописца. И я забабахал пейзаж в духе Фёдора Васильева. Облака, природа. Людям в погонах понравилось.
Со временем я, конечно, научился работать плакатным пером. До сих пор могу букву «о» идеально — как по циркулю — в любую сторону накрутить.
После совершенно волшебного первого курса училища, где ты целый день занимаешься живописью и рисунком, где тебе преподают историю искусств, философию, психологию, когда вокруг тебя красивая талантливая молодёжь, где с тобой нянчатся педагоги на индивидуальных занятиях, я попал в жёсткую военную среду. Физически я был готов. Город, в котором я вырос, был достаточно криминальный. Поэтому нас родители старались распихать по спортивным секциям, музыкальным, художественным школам — чтобы поменьше на улице время проводили. Мне казалось, я готов ко многому, но даже для меня армейский опыт показался достаточно жёстким.
И вот когда я попал в мастерскую — выдохнул. Строевая и политическая части оставались, конечно, но курсантской муштры уже не было. Нас взяли во взвод обеспечения учебного процесса этого батальона. Туда входили музыканты, повара, художники, медики. Рядом с мастерской была дверь в библиотеку с шикарными фондами. Там была весьма объёмная коллекция зарубежной и русской классики. А я ведь не был особым любителем чтения в школе. Но тут — занырнул. Тем более что я был практически единственным пользователем этой библиотеки. Батальон — это 600–700 человек, но за книгами ходило постоянно двое-трое.
— Кто ещё?
— Второй товарищ был сыном первого секретаря обкома Свердловска. Служил почтальоном. У него был свободный выход в город. Он мог себе позволить сделать причёску в городской парикмахерской — а мы ходили стриженные под ноль... Так вот он всюду ходил с томиком «Сага о Форсайтах». А я — с «Идиотом» Достоевского.
На нас пальцами показывали: «Вот «Идиот» пошёл со товарищи». Чтение спасало от окружающего кафкианского абсурда.
— А спорт?
— Как-то очень быстро организовалась секция классической борьбы. Инициатором, кстати, выступил паренёк из Новосибирска, кандидат в мастера спорта. Командир нашего взвода приветствовал это дело и тоже занимался в этой секции.
А вокруг меня быстро образовалась секция рисовальщиков. Мы по выходным брали увольнительные, шли в парк рисовать. У меня есть фото, где я сдаю тест. На мольберте стоит картина. Я коротко стриженный. В форме. С такой круглой самодельной палитрой...
А вокруг меня быстро образовалась секция рисовальщиков. Мы по выходным брали увольнительные, шли в парк рисовать. У меня есть фото, где я сдаю тест. На мольберте стоит картина. Я коротко стриженный. В форме. С такой круглой самодельной палитрой...
— В том самом парке?
— Нет, в мастерской. На этюды мы ходили в парк возле Зачатьевской церкви. Красиво со всех сторон. Как-то перелезли через забор в частный сектор — чтобы выбрать идеальный вид. Рисуем. И тут подходит древняя бабулька, интересуется, что военные тут делают в её саду-огороде. Мы говорим, дескать, извините ради бога, мы — военные инженеры, рисуем тут разную архитектуру. Разговорились. И она между делом заметила, что литературу ей в гимназии преподавал внук Пушкина...
Учитывая всё это, прочитанные книги, рисунки, этюды, я не могу назвать эти два военных года потерянными. Я перечитал всего Достоевского, Толстого, Тургенева, Чехова, Шекспира, Гёте…
Учитывая всё это, прочитанные книги, рисунки, этюды, я не могу назвать эти два военных года потерянными. Я перечитал всего Достоевского, Толстого, Тургенева, Чехова, Шекспира, Гёте…
А на Драйзере почему-то щёлкнуло что-то, я начал видеть то, что читаю. Будто фильм смотрю.
— А я-то думал, с этим рождаются...
— В детстве тоже случалось, но редко. Я рано определился. Взрослые знали, какие книги дарить. Моя тетя — она хорошо рисовала — присылала мне журналы и альбомы по искусству. Так вот, лет в 10 я посмотрел фильм «Суриков». В нём, в частности, было показано, что он видел картины-видения внутри себя задолго до того, как начинал писать холст. Скажем, «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Берёзове»… Сидели они с женой в деревенской избушке. За окном шёл дождь. И Суриков пытался представить — кто вот так же мог перед окном сидеть? И понял — это же князь Меньшиков! Он его увидел из собственного ощущения. Дальше — дело техники.
После этого фильма я понял, что художник — это человек, который видит образы и умеет их воплощать. И тогда я начал с пристрастием смотреть внутрь себя и… ничего там не увидел)
Но тут преподаватель студии Владислав Владимирович Тихонов, который учил нас, как с каждым занятием на холсте проявляется целый мир, дал задание нарисовать вечерние сумерки. И я это увидел как-то, сделал неплохую акварель. Потом уже на первом курсе училища было задание по композиции — сделать эскиз на тему «Праздник». И вдруг я так ярко вспомнил-увидел, как ещё до школы мы с мамой ходили к её двоюродным сестрам в частный сектор. Был какой-то особый день, в небе летел «кукурузник» и сыпал листовками.
Я нарисовал это синее небо, самолёт, падающие листовки, бегущих мальчишек. Преподавателю очень понравилось, он вынес вердикт: это вообще дипломная тема!
И третий раз — ещё до армии — было задание разработать тему «Крик». И я сразу услышал в голове Pink Floyd, The Dark Side Of The Moon — там есть женский крик, увидел силуэт человека и чёрное солнце — и нарисовал. Но это всё были какие-то разовые случайные сполохи… А тут на Драйзере в армии «перемкнуло». Я понял, что буквально переполнен этими картинками. С тех пор они постоянно пополняются, успевай только воплощать. Я стал видеть и свою жизнь, и каждую прочитанную книгу, и те, что читал раньше.
Не зря Александр Сокуров советует своим ученикам меньше смотреть фильмы других режиссёров и больше читать. Чтение развивает воображение. Причём это не иллюстрация, а скорее внутреннее видение по поводу. Когда я начинал серию графических работ, посвящённых Дон Кихоту, я придумал себе «киношную» историю, в которой у меня Дон Кихота играют разные актёры, в разных состояниях и возрастах.
Не зря Александр Сокуров советует своим ученикам меньше смотреть фильмы других режиссёров и больше читать. Чтение развивает воображение. Причём это не иллюстрация, а скорее внутреннее видение по поводу. Когда я начинал серию графических работ, посвящённых Дон Кихоту, я придумал себе «киношную» историю, в которой у меня Дон Кихота играют разные актёры, в разных состояниях и возрастах.
— «Дон Кихота» можно перечитывать с любого места, хоть всю жизнь!
— У меня несколько таких книг — в том числе и «Дон Кихот», и «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, книги Драйзера, Томаса Манна. Это книги, которые я читаю всю жизнь. Этим книгам «прописано» неторопливое постижение.
Мне нравится концепция Пруста, что время, не нашедшее своего воплощения в художественной форме, утрачено.
Его герой занимается поисками утраченного времени, чтобы дать этому времени ещё один шанс остаться в истории. Там есть абзац с пирожным мадлен, которым его в детстве угощала бабушка. И вот его — уже взрослого — снова угостили липовым чаем и пирожным мадлен. Вкусы смешались, и он очутился в своём детстве. Слышал запахи и звуки…
У Хайдеггера есть работа «Письмо о гуманизме», где он вслед за Прустом утверждает, что язык есть дом бытия. Само бытие дает тебе форму и фундамент — Бытие и Время. У Тарковского чуть иначе — время запечатлённое…
У Хайдеггера есть работа «Письмо о гуманизме», где он вслед за Прустом утверждает, что язык есть дом бытия. Само бытие дает тебе форму и фундамент — Бытие и Время. У Тарковского чуть иначе — время запечатлённое…
Почему мне как дизайнеру чрезвычайно интересна история искусств? Это же и есть запечатлённые знаки времени.
И как оформителю книг мне это здорово помогает.
— У нас, как в том фильме, получился монтаж — к биографии приплюсовали мировоззрение. Что там было, после армии? Когда старослужащий возвращается в своё учебное заведение, он попадает в совершенно новый непонятный мир. Но у вас ещё сложнее — после старого/нового мира факультета живописи — перевод на дизайн!
— В армию я ушёл молодым и зелёным, а вернулся суровым мужчиной) Я уже понимал, зачем конкретно я пришёл сюда, чему мне нужно научиться. Мои однокурсники уже вышли на диплом, а я попал в другую группу, к другому преподавателю. Это был хороший художник, но ему было как-то не до нас. Конечно, на эйфории я упоённо проучился второй курс.
Но далее я решил перейти на параллельный курс, к художнику-графику Борису Никитьевичу Лупачеву. Там была сильная конкурентная группа, и потом во мне произошёл такой внутренний дрейф от живописи как произведения искусства к книге как художественному предмету.
Но далее я решил перейти на параллельный курс, к художнику-графику Борису Никитьевичу Лупачеву. Там была сильная конкурентная группа, и потом во мне произошёл такой внутренний дрейф от живописи как произведения искусства к книге как художественному предмету.
— Ещё бы, во-первых, книгочей, а во-вторых, специальность более хлебная, во всяком случае, более предсказуемая…
— После живописного факультета я должен был распределиться преподавать в художественную школу или учителем рисования в обычную. Художники моего города летом собирались в бригады и ездили по городам и весям — оформляли ленинские комнаты и сельские клубы. А зимой занимались «высоким» искусством. Такая перспектива меня мало устраивала, но иначе на зарплату преподавателя «художки» не прожить…
Я решил, что если уж быть оформителем, то профессиональным. Это было самонадеянно и своего рода самоубийство.
Третий курс — это уже серьёзные семестровые и курсовые проекты. Причём у живописца мышление одно, а у проектировщика — совсем другое. Рисунок и живопись у меня были на уровне. Но Лупачев предупредил, что за курс придется сдать задания за все три курса. Слава богу, ребята мне помогали. Кто-то делал плакат, кто шрифты, а я им писал-рисовал постановки. Каким-то чудом уложился, четвёртый год уже полегче. Но из стен училища я вышел с такой кашей в голове! Три разных группы, смена специальности, очень много разных преподавателей….
— А тут как раз забурлила история. Перестройка…
— В журналах начали печатать ранее запрещённую литературу — Кафку, Джойса, Кобо Абэ, Макса Фриша. Брат из Томска присылал самиздат из университета: Льва Шестова, Николая Бердяева, Мартина Хайдеггера, Камю. И вот думаю, ещё неизвестно, что на меня больше повлияло, сформировало как дизайнера, художника — альбомы ли по искусству, музеи, выставки или русская и западная литература. Я многому учился на дневниках Кафки — как он работает со своими образами-химерами. Или у Рильке в «Записках Мальте Лауридса Бригге». Это как раз о том, что должен делать художник.
— В начале 90-х Новосибирское книжное издательство выпускало много книг большими тиражами. Но у этого издательства были свои ограничения по качеству печати и качеству бумаги. Книги быстро желтели, нельзя было сложный графический материал передать. Вы как-то хитрили или мирились?
— В это время с оформлением книг у меня было не особо много заказов. Да и в целом книжная графика оказалась скорее волонтёрством. Просто люблю книги, типографику — мне это интересно. До сих пор сотрудничаю с московским издательством «Новый Хронограф» и с новосибирским издательством «Свиньин и сыновья».
— Хлебной темой в конце 80-х оказался дизайн. Время открытий, свободы, рискованных и смелых заказчиков!
— Счастливое время. Один из «очагов дизайна» был тогда в НИИКЭ. Юрий Косов, Аркадий Иванов, Василий Бушков, Владимир Марков, Ира моя там работала. И мы там получали иногда заказы.
В 1989 году прошла первая выставка дизайнеров. Приехали свердловчане, учредили Союз дизайнеров Новосибирска. При союзе создали творческое производственное объединение — и жизнь закрутилась. Помню один из первых заказов — некая фирма заказала фирменный стиль и знак. Мы выиграли тендер. Вычерчивали в увеличенном масштабе, потом уменьшали в фотостудии. Кассы держали шрифтовые, выклеивали резиновым клеем...
В 1989 году прошла первая выставка дизайнеров. Приехали свердловчане, учредили Союз дизайнеров Новосибирска. При союзе создали творческое производственное объединение — и жизнь закрутилась. Помню один из первых заказов — некая фирма заказала фирменный стиль и знак. Мы выиграли тендер. Вычерчивали в увеличенном масштабе, потом уменьшали в фотостудии. Кассы держали шрифтовые, выклеивали резиновым клеем...
— Если судить по успеху международной биеннале знаков и логотипов «Тамга» — и относились к дизайну тогда с придыханием, аудитория огромная почитателей!
— Это же современное концептуальное искусство!
Есть концепция — есть знак. Нет — хоть зарисуйся, это будет просто красивая картинка.
Гениальные примеры, скажем, японский флаг — красный круг на белом фоне. Страна восходящего солнца! Тут дело не в умении рисовать, а в умении концептуально мыслить.
— У дизайнера Хананова были такие победы над суетой?
— Я всегда стремился к лаконичности. И всегда пытался убедить заказчика, что знак — это не просто красивая картинка или каллиграфия. Хотя каллиграфия, почерки меня тоже всегда интересовали. Не коллекционировал, но очень внимательно отслеживал — с характерами совпадали. У мамы был красивый, у отца — свой, соответствующий его характеру. Моя классная руководительница Нина Егоровна так на доске писала математические формулы, что получалась изумительно красивая орнаментальная графика.
Особенно бином Ньютона — я в нём ничего не понимал, но очень красиво!
А рукописи у Достоевского с рисунками! Не зря он в Главном Инженерном училище учился, военный архитектор. И у Пушкина, Гоголя, Тургенева… Многие русские писатели были великолепными рисовальщиками.
— Больше года назад открылась персональная выставка графики в ЦК19 (тогда еще ГЦИИ). Отзывы людей, которые пришли на выставку, в том числе давно знакомых с художником: «А я и не видел этой графики». Теперь представление Владимира Хананова начинается со слова «рисовальщик», а в конце стоит «дизайнер», а до выставки было ровно наоборот — известный дизайнер, который ещё что-то там рисует. Один вечер всё перевернул?
— Я бы всё-таки не ставил рисовальщика на первое место.
На вопрос «Кто ты?» нужно отвечать честно. А ты тот, чем ты зарабатываешь.
А зарабатываю я графическим дизайном. Графику, живопись сложно продать, это я ещё в юности понял.
Моя «пирамида Маслоу» выглядит так: нижняя, базовая основа у меня — графический дизайн, потом — книжная графика, наверху — станковая графика, чистое искусство.
На выставке меня действительно спрашивали: «А где вы всё это время были?» А я всё время был здесь, только выставлялся в основном как дизайнер.
Просто эта одна выставка графики внезапно перекрыла все остальные мои выставки.
поделитесь статьей