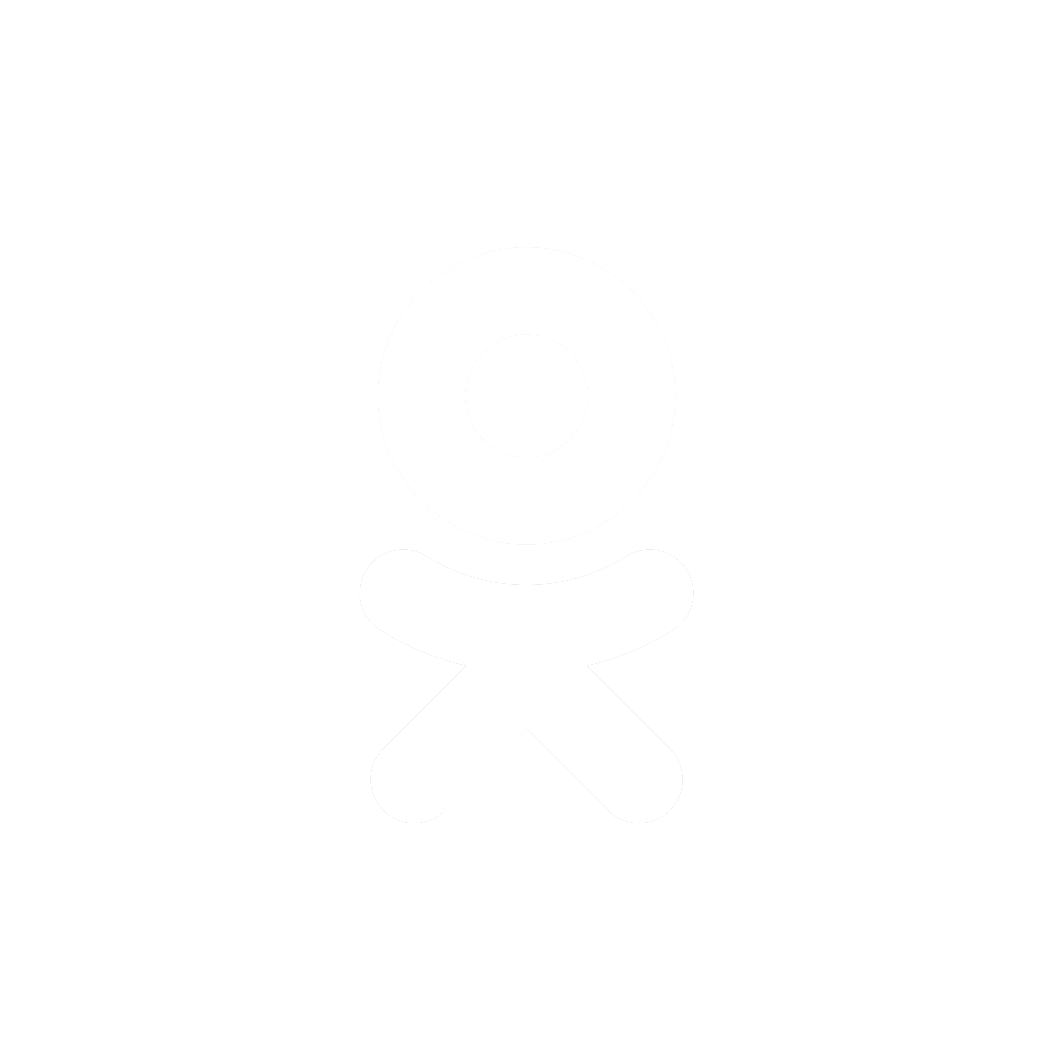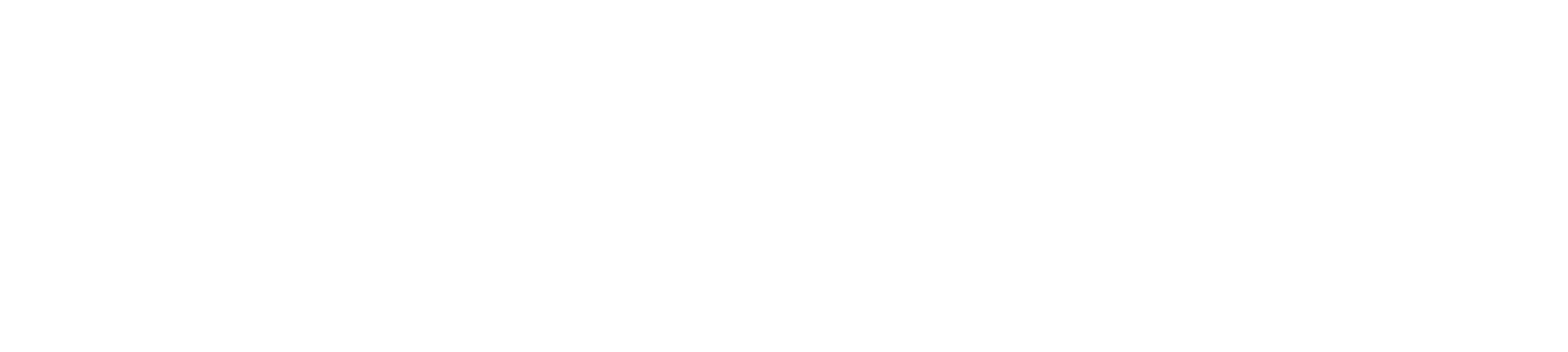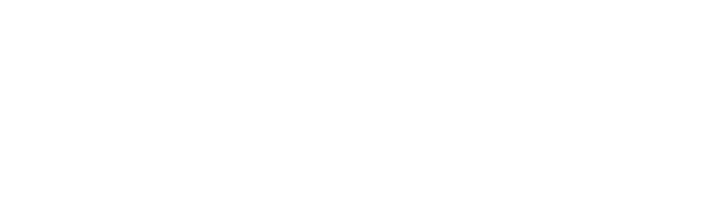Андрей Коробейников. Звуковые опыты по расщеплению музыки на атомы
Tilda Publishing
КУЛЬТУРА
Марина Андрианова
Известный пианист о Новосибирске, экспериментах с электроникой и финале симфонического сезона
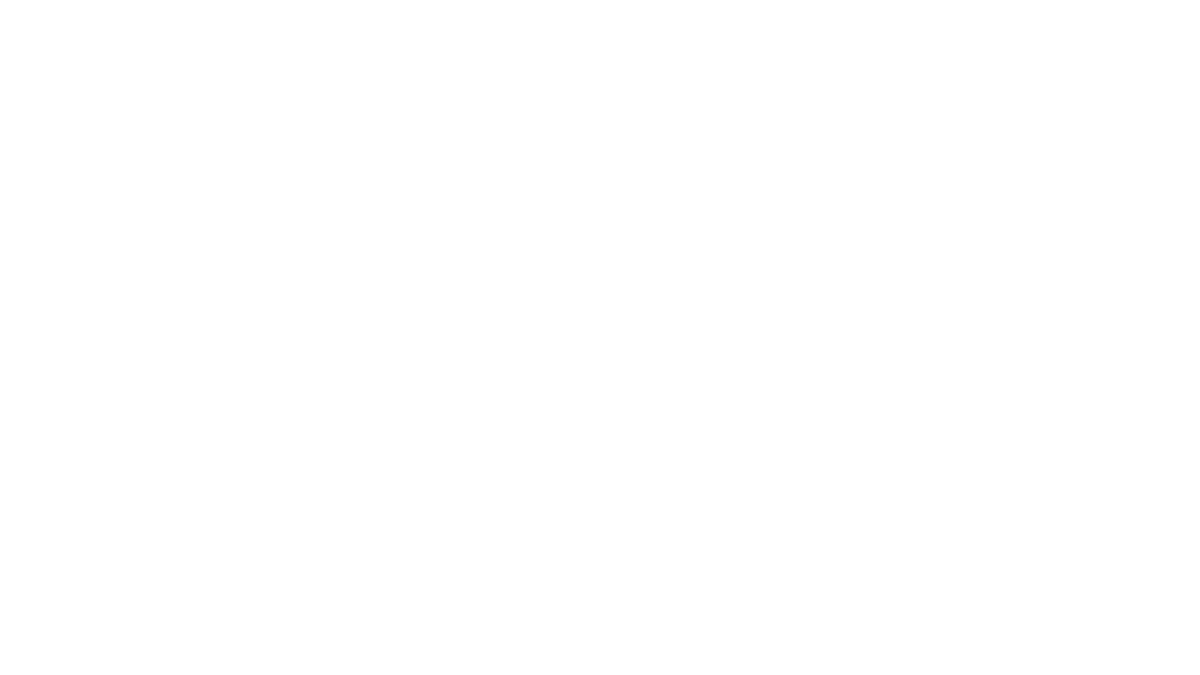
Фото: Irene Zandel
Июньский финал юбилейного (65 лет) симфонического сезона в Новосибирске был громким: с дирижёрами Валентином Урюпиным и Михаилом Грановским, фестивалем Ильдара Абдразакова.
Но на этом фоне не потерялись концерты с участием пианиста Андрея Коробейникова под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Новосибирского академического симфонического оркестра Томаса Зандерлинга. Московский музыкант с необычной биографией (далеко не каждый подающий большие надежды юный пианист в 12 лет поступает в Европейский университет права и по окончании его работает там преподавателем, при этом завершая обучение в Московской консерватории с отличием в 19 лет и продолжая учебу в Королевском колледже музыки в Лондоне) отличается к тому же нестандартным кругом музыкальных проявлений.
Прекрасно известный на международной классической сцене Андрей Коробейников — обладатель более 20 премий различных конкурсов в России, США, Италии, Португалии, Великобритании, Нидерландах и других странах. Он выступает в самых престижных залах со знаменитыми оркестрами и солистами, а также играет с музыкантами, практикующими подсознательную интуитивную импровизацию, психоделику, электронику, объединяя музыкальную интуицию с классическим и джазовым бэкграундом, творя музыку состояний.
Нынешняя программа была вполне классической, из золотого репертуара пианиста. Но Андрей Коробейников готов предоставить зрителям возможность услышать и свои звуковые опыты по расщеплению музыки на атомы. Он поведал об этом в интервью, рассказав и о том, как может поменяться концепция выступления за 5 минут до выхода, и о своих взаимоотношениях с Новосибирском и его музыкантами.
Но на этом фоне не потерялись концерты с участием пианиста Андрея Коробейникова под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Новосибирского академического симфонического оркестра Томаса Зандерлинга. Московский музыкант с необычной биографией (далеко не каждый подающий большие надежды юный пианист в 12 лет поступает в Европейский университет права и по окончании его работает там преподавателем, при этом завершая обучение в Московской консерватории с отличием в 19 лет и продолжая учебу в Королевском колледже музыки в Лондоне) отличается к тому же нестандартным кругом музыкальных проявлений.
Прекрасно известный на международной классической сцене Андрей Коробейников — обладатель более 20 премий различных конкурсов в России, США, Италии, Португалии, Великобритании, Нидерландах и других странах. Он выступает в самых престижных залах со знаменитыми оркестрами и солистами, а также играет с музыкантами, практикующими подсознательную интуитивную импровизацию, психоделику, электронику, объединяя музыкальную интуицию с классическим и джазовым бэкграундом, творя музыку состояний.
Нынешняя программа была вполне классической, из золотого репертуара пианиста. Но Андрей Коробейников готов предоставить зрителям возможность услышать и свои звуковые опыты по расщеплению музыки на атомы. Он поведал об этом в интервью, рассказав и о том, как может поменяться концепция выступления за 5 минут до выхода, и о своих взаимоотношениях с Новосибирском и его музыкантами.
— Вы с Новосибирском на «ты», уже хорошо знакомы?
— Да-да-да, мне здесь очень нравится, и я всегда спорю с томичами и кемеровчанами, говорю, что Новосибирск — красивый город, есть здесь что посмотреть, чем насладиться и можно ощутить себя свободно. В Новосибирске есть динамика, это вообще один из самых активно развивающихся мегаполисов за последние 100 лет. А Томск — наоборот, у меня в нём были ассоциации с Нижним Новгородом, Саратовом, такие города, которые хранят то, что было, что есть — консервация некая. И их жителям неудобно в городах, которые стремятся и хотят куда-то. А в Новосибирске всегда душевно, душевно по-сибирски, без какой-то сентиментальщины. Достойно, здесь всегда заряжаешься энергией, и у вас, конечно, своя столица, есть такое ощущение.
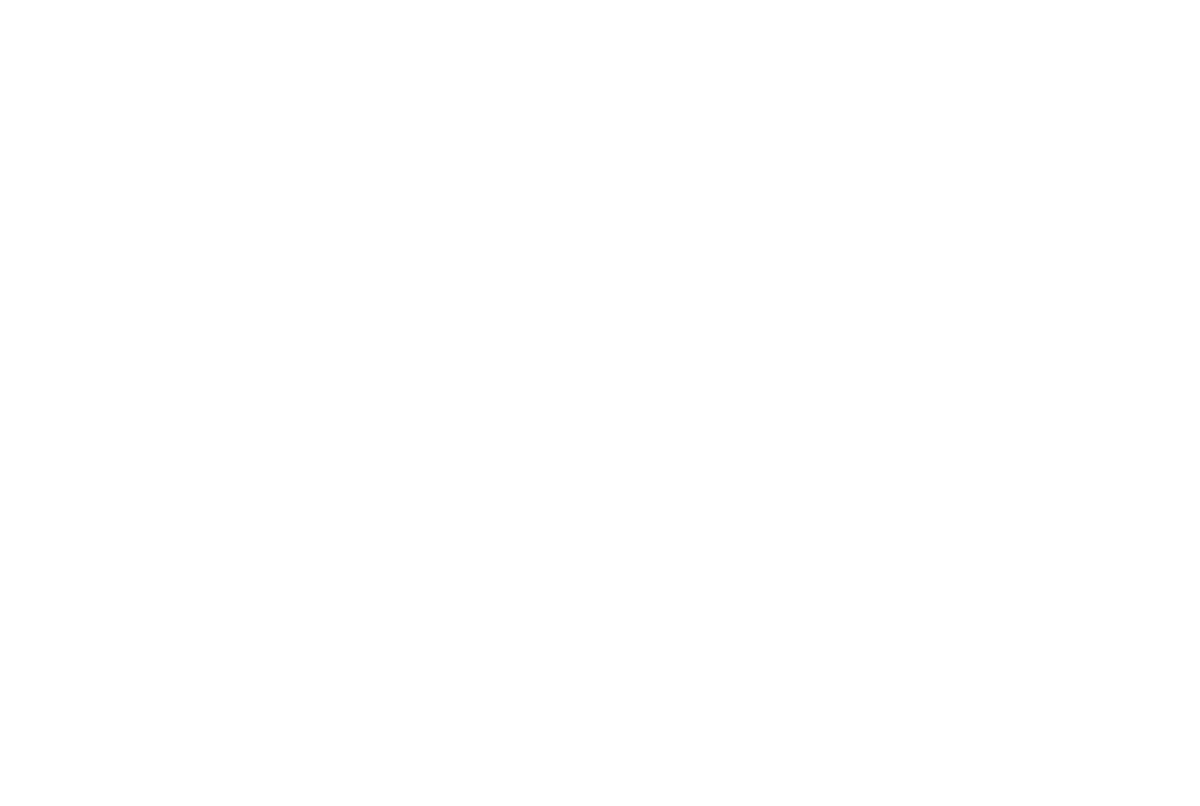
Фото: Михаил Афанасьев
— Наверное, больше десятка лет насчитывает уже ваше взаимодействие с Новосибирском?
— Я первый раз играл в ДК Железнодорожников, и это уже о многом говорит.
— Да, ещё не было зала имени Каца, он открылся 8 лет назад. Помню, и в Камерном зале филармонии ваши концерты были.
— Так и есть, я выступал в Новосибирске много раз, и сольно, и с Александром Князевым, с Вадимом Репиным, и с квартетом «Филармоника». И даже в Бердске и Искитиме побывали.
— То есть вы не только Новосибирск, но и некоторые его окрестности изучили?
— Я всегда гуглю информацию про те города, куда еду выступать. И мы беседовали год назад в филармонии, что мои следующие задачи — это побывать в Колывани и Каинске (по-моему, Куйбышев называется сейчас), чтобы посмотреть старинные места.
— Вы уже лучше многих новосибирцев ориентируетесь в нашей истории и географии — во многом благодаря участию в Транссибирском Арт-фестивале, это уже целая глава вашего творчества. В прошлом году в трио выступали, исполняя Шостаковича.
— Да, с Вадимом и, так получилось, последнее выступление было с виолончелистом Александром Бузловым, безвременно ушедшим… Я много раз приезжал. И с оркестром играл, и с Вадимом был памятный концерт, мне было так приятно, что его маме очень понравилось. Был такой домашний новосибирский концерт, когда видишь, что человек вырос здесь, окружён своими однокашниками. Фестиваль, по-моему, развивается, обрастает мясом, и могу вас только поздравить, главное, чтобы все так же и шло.
Andrei Korobeinikov
Д.Д. Шостакович - Трио №2 для скрипки, виолончели и фортепиано соч.67. VII Транссибирский Арт-Фестиваль, Новосибирск, ГКЗ им. А.М. Каца, 26.03.2020.
Вадим Репин (скрипка), Александр Бузлов (виолончель), Андрей Коробейников (фортепиано)
Д.Д. Шостакович - Трио №2 для скрипки, виолончели и фортепиано соч.67. VII Транссибирский Арт-Фестиваль, Новосибирск, ГКЗ им. А.М. Каца, 26.03.2020.
Вадим Репин (скрипка), Александр Бузлов (виолончель), Андрей Коробейников (фортепиано)
— У вас есть дальнейшие фестивальные планы? Хотя здесь многое, если не сказать всё, зависит от художественного руководителя Вадима Репина.
— Да, это он определяет. Я как-то ему по дружбе предложил какие-то проекты, с электронной музыкой в частности, но пока ещё не убедил. Мне только дай, как говорится, развернуться. (Смеётся.) У меня как раз для Арт-фестиваля, то есть для искусства в широком смысле, идей очень много, поэтому будем надеяться, что какой-нибудь маленький карт-бланш я получу. Я делал очень много импровизационной музыки как раз с ребятами из Новосибирска, сейчас они в Питере, и мы играем. Это группы DAVKO и «Дюны», ребята из Юрги, из Новосибирска в основном. Питерские только саксофонист и басист, остальные сибиряки. И поэтому я думал, что сам бог велел показать это здесь.
Kozlov Club
Андрей Коробейников и Davko
Андрей Коробейников и Davko
Более того, многолетняя дружба меня связывает с композитором, который сейчас во Франции, и уже там получил даже какую-то главную премию от Института Франции — это Станислав Маковский из Юрги, такого земляка надо продвигать. С ним мы делали проект с электроникой, он играет на живой электронике классические произведения от Фрескобальди до Булеза. Мы устраивали такие концерты, играли в Улан-Удэ, в Москве, в Ярославле. Критики писали, что происходит некая деконструкция, когда перед слушателями возникают как будто музыкальные атомы, из которых всё выстроено. В общем, это экспериментальная штука. Он сейчас пишет и фортепианный концерт, так что будем надеяться, покажем худруку фестиваля, может быть, сделаем здесь премьеру мировую.
Andrei Korobeinikov
Within «500 years of improvisation: piano vs electronics!.. + drums». А. Коробейников - рояль, С. Маковский - электроника, П. Осколков - ударные
Within «500 years of improvisation: piano vs electronics!.. + drums». А. Коробейников - рояль, С. Маковский - электроника, П. Осколков - ударные
— Почему бы нет. Ведь это одна из важных составных частей Транссиба — премьеры. Но сейчас вы играли Первый концерт Брамса, думаю, что это отнюдь не премьера у вас была.
— Нет, конечно. Это золотой репертуар.
— Хотя в вашем исполнении не вполне обычно звучащий.
— Не знаю, я так и слышу, но, конечно, всегда есть ансамбль с дирижёром. Считаю, что никогда не должно быть никакой войны, всегда нужно, как с каждым солистом в камерной музыке, найти общий знаменатель, и мне кажется, мы его нашли. С нетерпением хочу переслушать, как у нас получилось, потому что с Томасом Куртовичем всегда очень сильно находишься внутри какого-то состояния, момента. Хотя сегодня я пробовал ещё кое-что, и ввиду предложения маэстро Зандерлинга вспомнилась одна история. Я однажды показал наш с виолончелистом Александром Князевым диск с музыкой Брамса — который мне самому очень нравится, и моему партнёру тоже, и многим — немецкому виолончелисту, причём немецкому до мозга костей — Йоханнесу Мозеру. И он интересно сказал: мол, всё здорово, но вы играете немного по-русски. Хотя мы как раз старались играть не по-русски. Мы так чувствуем Брамса, это наш знаменатель.
— В чём же он это усмотрел, вернее, услышал?
— Он сказал: вы слишком длинно ведёте фразы, это ваше, русское — Чайковский, Рахманинов. У нас в немецком языке нет такого, мы так не мыслим, бьюсь об заклад, что Брамс мыслил более короткими фразами. И вот сегодня мне хотелось совместить то, что меня, с одной стороны, влечёт русская природа, но и в то же время всю эту немецкую речь, язык и другое мышление, его лиги выполнить, его фразировку особенную, которая не должна потеряться в этом музыкальном чувстве, а оно, конечно, здесь переполняет. И очень сложная задача — выдать всё не непосредственно, а через преодоление. В этом концерте это самое трудное. Потому что во Втором концерте Брамса, который технически вроде бы сложнее, есть то же, что и в Третьем Рахманинова, и в концерте Чайковского: ты начинаешь — и всё, ты уже на крыле, уже летишь, и если у тебя получается, идёшь — музыка ведёт. А здесь принципиальное произведение, которое написано с преодолением, и играть его надо с преодолением. Причём для меня ещё было открытие. Спасибо маэстро, потому что я изначально, как любой пианист, видел в этом оммаж — не будем говорить, что это перепев, но Брамс имел в виду Третий концерт Бетховена, здесь так читается и фугато в финале, и темы даже немножечко похожи. Многое пересекается в этих концертах, и это преодоление. Потом понятно, что здесь видны аллюзии на барокко, на Баха в том числе. Но при этом Брамс гениально совместил — и на это мне открыл глаза Томас Куртович, я ни в одном исполнении раньше такого не встречал — ещё и венгерскую музыку. У меня даже концепция поменялась за 5 минут до выхода. Очень люблю, когда такое происходит. Когда я играл концерт Шнитке первый раз, до меня перед самым выходом дошло, какие слова там зашифрованы — там как бы служба православная идёт, и в других эпизодах повторяются всё время какие-то ноты. Я знал, что это слова, а тут неожиданно понял, что это «Господи, помилуй» — и всё сошлось.
— И всё встало на свои места.
— Да, вдруг. Поэтому здорово, когда ты не просто приехал как гастролёр — там сыграл, сям сыграл, а действительно, каждый раз с каждым оркестром, у которого особенное звучание (а у Новосибирского оркестра оно, несомненно, есть), с каждым маэстро рождается что-то новое, это здорово, спасибо им большое.
— Ну и на бис вы Шумана сыграли, пьесу «Порыв».
— Да, я люблю так соединить. Мне кажется, несмотря на сложные взаимоотношения, Брамс все равно любил Шумана.
Andrei Korobeinikov
Шуман — "Порыв" из цикла "Фантастические пьесы" соч.12 №2. Андрей Коробейников, Москва, Большой зал Консерватории, 23.09.2019
Шуман — "Порыв" из цикла "Фантастические пьесы" соч.12 №2. Андрей Коробейников, Москва, Большой зал Консерватории, 23.09.2019
— И Клару, и Шумана, любил их обоих, как и все в этом любовном треугольнике: Клара Вик, Шуман и Брамс.
— Да-да.
— Вообще-то этот концерт должен был состояться ещё в прошлом году, но по известным причинам тогда всё отменилось.
— Вот, долг отдал. Как договорились, так поставили, спасибо Новосибирской филармонии. Не все филармонии сохранили концерты. А ведь есть сотрудничества многолетние, а иногда, бывает, каких-то музыкантов сводит на сцене судьба несколько раз, и надо это ценить, хочется, чтобы всё воплотилось.
— С чем ещё можем вас ждать в Новосибирске?
— Давно не играл у вас соло, хотел, может быть, сольник сыграть. Мне кажется, меня знают, и люди придут, если будет хорошая программа. Так что спасибо новосибирцам — и до новых встреч.
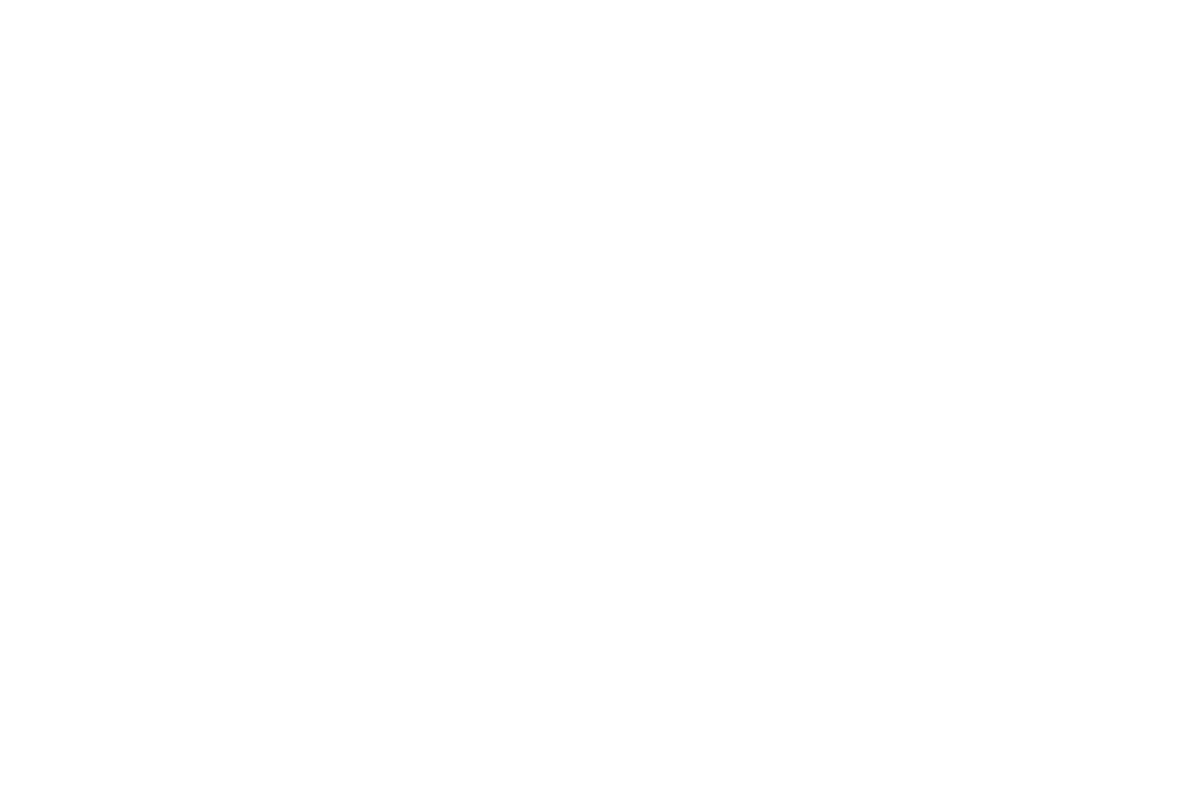
Фото: Михаил Афанасьев
поделитесь статьей